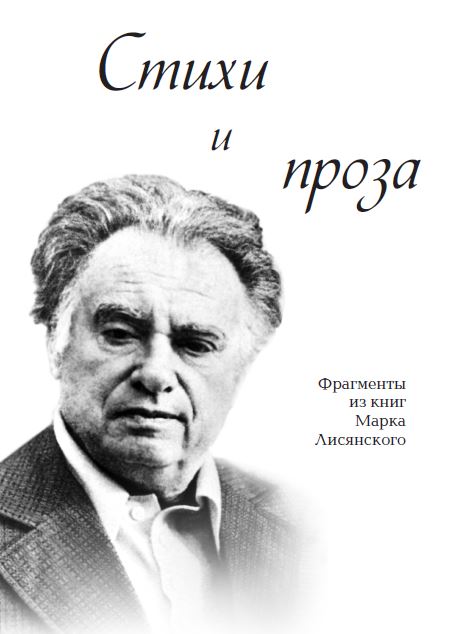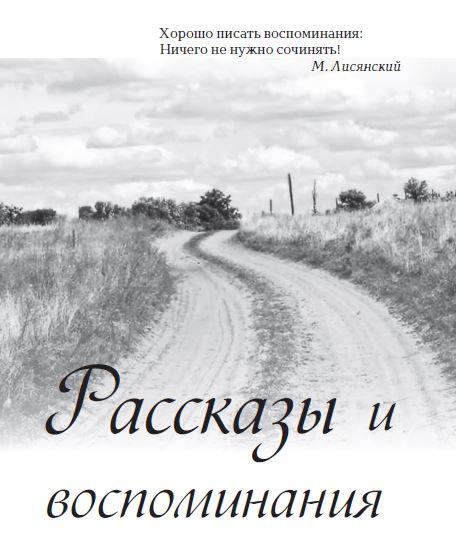Борис Лазаревич Аров
(1919-2016)
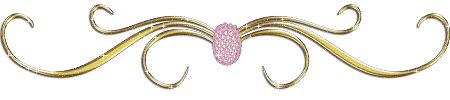
Чуткие струны Марка Лисянского
У Марка Лисянского немало стихотворений о родном городе. В одном он пишет:
... Во все края земли
От пирса Николаева
Уходят корабли.
Вовеки не забудется,
Что с этих стапелей
Сошел и не заблудится
Корабль судьбы моей.
И еще. В авторской вступительной статье к своему двухтомнику поэт признается: «Мои города – Николаев, Ярославль, Москва – всегда со мной, хотя я по свету немало хаживал».
Поэт любил Николаев. У этого чувства глубокие корни. Родился М. Лисянский в 1913 году в Одессе, но детство, юность, школа-семилетка, фабзавуч, завод, первые прочитанные книжки, первое написанное стихотворение, первые напечатанные строчки в городской газете – все это Николаев.
Марк Самойлович всегда с теплотой вспоминал своих школьных учителей, знакомство с местными литераторами, работу в меднокотельном цехе Черноморского судостроительного завода, занятия заводского литературного кружка «Шкив». Корабелы послали талантливого юношу учиться в Москву. Первая книга стихотворений «Берег» родилась под влиянием напутствий Эдуарда Багрицкого. Эдуард Багрицкий, о встрече с которым мечтал молодой поэт, оказался человеком строгим и одновременно сердечным. «Походите по земле, – посоветовал он, – а вернетесь в Москву – я буду редактором вашей новой книги». Но обещания своего не сдержал. Умер. А редактором первого сборника «Берег» стала друг Багрицкого Аделина Адалис. Скупой на похвалы Ярослав Смеляков напечатал тогда в «Литературной газете» теплую статью «Новый поэт».
Завет Багрицкого: «Походите по земле» – М. Лисянский всегда помнил. Наверное, неслучайно одно из стихотворений, сыгравших особую роль в жизни поэта, начинается словами: «Я по свету немало хаживал...». Оно было написано осенью 1941 года. По дороге из Ярославля в Москву блокнотный листок со стихотворением поэт оставил в редакции журнала «Новый мир». Позже композитор И. О. Дунаевский рассказал автору стихов, что, прочитав их в «Новом мире», тут же, на журнальных страницах, набросал мелодию будущей песни. Сама песня догнала Марка Самойловича на фронтовой дороге. И я ее впервые
услышал на фронте. Когда диктор объявил, что автор музыки Дунаевский, а стихов – Лисянский, я не мог не сказать фронтовым друзьям, что это мой земляк, да еще знакомый. И они почему-то начали поздравлять... меня.
Наше первое знакомство произошло еще в конце 30‑х годов в редакции николаевской областной газеты. Проходило очередное собрание литературного объединения при редакции. Первое выступление поэта, выходца из рабочих-корабелов, но уже выпускника Московского института журналистики. Он очень волновался: что скажут давние друзья, особенно заботливые наставники начинающих авторов Касьян Михайлович Федулов и Виктор Александрович Охотников? Позже он напишет: «Признал бы меня Николаев, признает тогда и Москва». Стихи, конечно, обсуждали, каждый говорил свое мнение, желали удачи. На фоне появившихся тогда поэтических экспериментов разных направлений стихи Лисянского привлекали искренностью и ясностью стихотворной речи.
Война – особая строка в биографии Лисянского. Медики признали его «ограниченно годным к военной службе». Но это для него ничего не означало. «Помню июнь 1942 года, – писал генерал-майор А. Куценко, – наша дивизия наступала на Ржев. В один из вечеров, в разгар напряженного боя, на наблюдательный пункт приполз, держась за провод линии связи, редактор дивизионной газеты „В бой за Родину“ Марк Лисянский. Попутно он несколько раз восстанавливал связь... Случилось так, что он... должен был возглавить саперный взвод: еще до войны проходил действительную службу в инженерном батальоне. И вот он, на войне, не колеблясь, принял активное участие в обезвреживании вражеских мин при наступлении».
Его фронтовая лирика – это неотъемлемая частица личной судьбы, это верность памяти фронтовых друзей.
24 марта 1944 года, когда еще велись бои на подступах к Николаеву, он мысленно был с родным городом:
Город над Ингулом и над Бугом,
Отраженный с трех сторон водой,
Ты мне оставался верным другом
Под холодной Северной звездой.
Словно в детстве, твой прибой встречаю
И кричу сквозь орудийный гром:
Здравствуй, здравствуй, город Николаев!
Ты нас ждал, и мы к тебе идем! –
Я кричу и вижу, словно в сказке,
За рекою первый твой квартал...
Узнаешь ли голос мой солдатский?
Ты его мальчишеским знавал.
Есть у всех незаменимый город,
Есть незаменимые друзья.
Город свой нельзя оставить в горе,
Так с друзьями поступать нельзя.
Николаев – боль моя живая,
Может, день остался, может, час,
Чтобы ты, сквозь слезы улыбаясь,
Встретил под акациями нас...
25 марта 1944 г.
Поэт прошел боевой путь до Берлина, был ранен. Именно здесь в мае 1945 года услышал, как солдаты пели: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва...».
Прошли годы. И две строки из этой песни: «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова» – были высечены на барельефе памятника Славы на 23‑м километре от Москвы, где на одном из рубежей был остановлен враг. Такие почести на долю стихов выпадают редко.
...Книга за книгой, новые стихи, поэмы. Многие стихи стали песнями. Потому что, казалось бы, сугубо личные строки выражали чувства и думы миллионов. Действительно: «Жил в землянках, окопах, тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске»; «Великую землю, любимую землю я в сердце своем берегу»; «И все-таки мы жили, и все-таки мы были!»; «Счастлив лишь тот, в ком сердце поет, с кем рядом любимый идет...». Разве это не мысли и чувства многих из нас?!
Этапными в творчестве поэта стали его поэмы «Дума о матери», «Петя Клыпа», «Добрый путь», «За горами,
за лесами» и, конечно, книга «Навсегда». Поэзию Марка Лисянского высоко оценивали в печати такие разные писатели, как Михаил Светлов, Леонид Мартынов, Сергей Наровчатов, Виктор Шкловский.
Тот, кому довелось побывать на творческих вечерах поэта, становился свидетелем его тесного контакта с аудиторией, нескрываемой любви и уважения к поэту как его читателей, так и товарищей по перу.
Вспоминаю выступления коллег Лисянского на одном из юбилейных вечеров в Московском Центральном Доме литераторов. Нет, это были не трафаретные панегирики, а слова, идущие от сердца. Андрей Вознесенский: «...Я искренне рад, что в таком болоте, как наш Союз писателей, есть такое чистое озеро, как Марк Лисянский. А сейчас буду читать его стихи». Лидия Лебединская: «Это не только талантливый поэт, но и настоящий, надежный друг, который всегда придет на помощь в трудную минуту. Вот почему решила подарить ему эту большую куклу – Доктора Айболита». А поэт Илья Френкель привел множество фактов участия Марка Лисянского в судьбах своих друзей по литературному цеху. Перефразировал его известную
песню «И кто только у Марка денег не одалживал, и кто только ему не отдавал! Вся дорогая моя столица, вся золотая моя Москва». И т.д.
Известно, что не всегда личная жизнь писателя совпадает с проповедуемой им высокой нравственностью. Что ж, бывает и так. Марк Лисянский – цельная натура. Честность, искренность, дружелюбие, житейская мудрость. Поверьте, никакого преувеличения. Возьмите в руки и перечитайте последний его сборник «Мелодия» – и вы еще раз убедитесь, что в нем нет ни одной фальшивой ноты. И все это потому, что поэт никогда не старается быть «модным», не стремится оперативно откликаться на события. Каждая его строка
пропущена через собственное сердце – «Только тронешь – запоет струна...», – сверена с правдой и совестью.
Нет ни одного из нескольких десятков сборников его стихов, в которых не было бы строк, посвященных Николаеву. И каждый раз новых. За такую сыновью преданность николаевцы ответили взаимностью. А то, что в числе почетных граждан города среди выдающихся флотоводцев, кораблестроителей, легендарных героев войны есть имя поэта Марка Лисянского, – вполне закономерно.
Очередной 80‑летний юбилей по традиции отмечали и в Москве, и в Николаеве. Переполненный зал Центрального Дома работников искусств. Видные поэты, писатели, композиторы выходили на сцену с томиком только что вышедшего сборника стихов Лисянского, цитировали поэта, говорили о свежести и мудрости мысли.
В том же году, 30 августа, утром, пришла печальная весть о его кончине. А на следующий день я получил находившееся в пути последнее письмо Марка и журнал «Юность» с его новыми стихами. «...Хорошо работается, – писал он. – На столе готовые рукописи прозы и нового сборника стихов.» Лисянский был полон творческих замыслов и умер, как солдат, на посту, работая до последней строки.
Было осеннее утро, листопад, и мне показалось, что я слышу строки из его песни:
«...Осенние листья шумят и шумят в саду,
Знакомой тропою я рядом с тобой иду...»
Настоящий поэт не умирает, потому что живут его стихи, пробуждающие в людях добрые чувства. Прислушайтесь:
Я оставляю Вас
В большой надежде,
Что будет хлеб и квас
У вас, как прежде.
Готов поверить я
На пепелище,
Что будут все моря
Светлей и чище.
Что горы и леса
Вздохнут свободно,
Раздвинув небеса
Как им угодно.
И лишь одно меня
Весьма тревожит
И все печали дни
Безмерно множит,
И лишь об этом речь
Была и будет:
Как души уберечь
Сумеют люди?
Уберечь, как это смог поэт Марк Лисянский. «Я по свету немало хаживал...» – так озаглавлена вышедшая в Москве посмертная книга нашего славного земляка поэта Марка Лисянского. Он ушел из жизни в 1993 году. Но оставались не только неопубликованные стихи, часть из которых вошла в сборник «Диалог», а и рассказы, и воспоминания о тех, кого он знал и любил. Они писались в разные годы в течение многих лет. Архивом поэта заинтересовалось московское издательство «Тверская, 13».
А систематизировала все эти рукописи Антонина Федоровна Копорулина-Лисянская, которая шла с Марком Самойловичем по жизни более пятидесяти лет, была его женой, другом, музой.
Лисянский как поэт хорошо знаком и любим многими читателями. Во вступительной статье «От издательства» читаем слова о Лисянском Михаила Светлова: «В своей долгой жизни я встречался со многими людьми. Очень часто с людьми талантливыми, значительно реже с людьми благожелательными и совсем редко с людьми благожелательными и талантливыми. Марк Лисянский относится к самому редкому виду...
Сколько я его помню, он никогда не хотел быть впереди товарищей, он всегда хотел быть рядом с ними. Это редкое качество, особенно если взглянуть на сегодняшних молодых поэтов».
В стихах Лисянский всегда был искренен, писал – как дышал. Читая книгу, нельзя не заметить, что, выступая в новом качестве прозаика, автор остается верен себе. Те же душевная доброта, мудрость. Эта книга – о чести, о человеческом достоинстве, мужестве, любви, дружбе. В ней живет тонкая душа поэта.
Под пером Лисянского оживают творческие портреты Эдуарда Багрицкого, Михаила Светлова, Михаила Дудина, Александра Твардовского, Виктора Шкловского, Михаила Исаковского, Алексея Фатьянова, украинского поэта Саввы Голованивского, художника Сарьяна, композиторов Бориса Мокроусова, Яна Френкеля, Александры Пахмутовой, Соловьева-Седого и других замечательных деятелей культуры и искусства. Знаменательно то, что среди героев книги не только именитые люди. Перед нами судьбы и характеры незаурядных личностей из числа рядовых тружеников, перед мастерством и трудолюбием которых преклонялся поэт.
Словно увертюра звучат в книге воспоминания о юношеских годах, проведенных в Николаеве, первых шагах приобщения к поэзии. Отдельная глава посвящена школьным годам, друзьям, фабзаучникам – активистам литературного кружка «Шкив» на ЧСЗ. Написав свои первые стихи, Михаил Хазанов и Борис Магнезин ушли на фронт и пали в бою смертью храбрых. Автор считает своим долгом в самом начале книги поведать и о фронтовиках-однополчанах.
С особой теплотой написан очерк о Михаиле Исаковском, творчество которого близко Лисянскому и по духу,
и по стилю, и по музыкальности. «Стихи должны петь в вашей душе, – пишет автор очерка. – Именно такими были стихи Исаковского, и они действительно пели...»
Да и у Лисянского многие стихи пели вместе с музыкой И. Дунаевского («Моя Москва»), Б. Мокроусова («Осенние листья»), А. Долуханяна («Горит черноморское солнце в тумане», «Моя родина»), Ю. Милютина («Когда поют солдаты»), Я. Френкеля («Годы») и т. д.
Автор книги рассказывает о том, как создавались эти песни. Оказывается, некоторые стихи писались уже на готовые мелодии. И какими чуткими должны быть струны в душе поэта, чтобы воедино слить слова и ноты!
Бывает, что автора озаряет лишь одна неожиданно посетившая его строка. Так получилось, когда, находясь в Париже, он подумал о родном городе. И тогда в записной книжке появились строки: «Я и в городе Париже Николаев вспоминал».
«А когда нас с Долуханяном, – вспоминает Лисянский, – пригласили в Николаев на праздник Дня города, мне вспомнились эти строки. Мы решили поехать в мой родной город с новой песней. Она была дописана. Родилась мелодия. И вот под вечерним небом на переполненном стадионе проходил этот незабываемый
праздник.»
И я прекрасно помню этот день. Тогда же состоялась премьера еще одной песни о Николаеве – «Корабельная сторона» композитора, нашего земляка, Климентия Доминчина на слова, написанные мною в соавторстве с Э. Январевым. Получилось своеобразное соревнование двух песен на одну тему. А когда мы возвращались в одной машине в гостиницу, Долуханян, обращаясь ко мне, сказал: «А знаете, ваши строки: „Если б не было на свете корабелов, то и не было б Колумбов никогда“ –могут стать афоризмом. Поздравляю». «С удачей вас, ребята», – добавил Лисянский.
Вот еще один штрих искренней доброжелательности. Марк Лисянский радовался, что эта премьера состоялась именно на стадионе. Ведь к спорту он был неравнодушен с детства. Со своим другом Владимиром Ищенко играл еще в так называемых уличных футбольных командах. Они так и выступали под названием своих улиц. С тех пор он всегда по-доброму завидовал Володе, что тот стал знаменитым николаевским футболистом. И трогательная дружба между ними длилась всю жизнь. Когда Ищенко скончался, Лисянский, чтобы проводить друга в последний путь, специально прилетел из Москвы. И затем принял самое активное участие в установке ему памятника.
...Разве можно забыть тот памятный матч «Судостроителя» с московским «Торпедо» в Москве, на стадионе
в Лужниках? Это был четвертьфинальный матч на Кубок СССР. Марк Самойлович собрал и привел на стадион всю николаевскую диаспору, проживавшую в столице СССР. И как неистово болела эта небольшая горсточка николаевских болельщиков – трудно описать. Я присутствовал при этом. И казалось, что эта сила любви и желания помочь команде родного города были настолько велики, что вселили в команду новые силы. И она победила со счетом 2:1. Конечно, здесь главный успех заключался в самих игроках, их полной самоотдаче и понимании всей ответственности перед родным городом. Но и поддержка таких близких людей была неизмерима. А потом вся диаспора устроила землякам овацию. Послали делегацию в раздевалку. И заводилой всего этого был поэт Марк Лисянский.
Выступления наших земляков на Московской Олимпиаде он оценил по-своему: «На олимпийском фоне успех-то наш какой: Серебряная Тоня и Виктор Золотой» (Антонина Пустовит и Виктор Погановский). И я вставил эти строки в свой репортаж из Москвы.
Разве не символично то, что в день 80‑летия поэта, который отмечался в Николаевском театре имени Чкалова, на сцену доставили настоящую яхту?! Подняли на ней паруса. Колокол отбивал склянки. И на этом фоне поэт читал:
Корабелы, корабелы, –
Снова я в семье родной.
Парус белый, белый, белый
Надо мной.
Казалось, что в этот вечер он плывет под парусами яхты родного города из прошлого и вместе с нами держит путь в будущее...
Кроме упомянутой книги «Я по свету немало хаживал», после кончины поэта увидели свет еще сборник стихов «Диалог», книга прозы «Провинциальные рассказы» и документальная повесть «Мимоза-сан».
Почему так озаглавлена эта повесть? На этот вопрос лучше всего отвечает предисловие к этой книге. В нем рассказывается, как в июле 1940 года в поезде Ярославль – Рыбинск в одном купе просто как соседи чинно познакомились двое молодых людей. Он назвался Александром Зноевым, жестянщиком меднокотельного цеха, она ему отрекомендовалась Мимозой-сан. Он сказал, что его можно называть просто Санькой, как его звали в институте, а она сказала, что ее можно называть просто Мимоза, как называла школьная учительница. Заминки в церемонии знакомства не произошло. Просто непринужденно беседовали, играя словами. И вдруг она продекламировала в торжественном стиле четверостишие из его стихотворения «Гимн жестянщику». Так называемый Санька опешил, и они вынуждены были озвучить свои паспортные данные.
Санькой был Марк Лисянский, а Мимозой – его будущая ена Антонина Копорулина. Они дружно рассмеялись и продолжали в дороге беседовать о театре, о поэтических вечерах, которые были в Ярославле, об известных в городе актерах и о первой книжке стихов Лисянского, которая только что вышла в ярославском издательстве, из которой, как вы догадались, она продекламировала ему строки из «Гимна жестянщиков». Молодой автор, не без ссылки на Пушкина, так в своих стихах «запомнил чудное мгновенье»:
Мелькнула станция Ваулово,
Где мы простились в первый раз...
Судьба счастливыми посулами
Не обнадеживала нас.
...У них впереди была действительно непростая судьба. Через год грянула страшная война, и с первых дней они жили бедами, болью, заботами и хлопотами этого безумного времени. Вместе с армией они прошли путь от Ржева до Берлина.
Жизни людей в тылу и на фронте, ратным подвигам и смерти 20‑летних защитников нашего государства и повящена документально-художественная мемуарная повесть Марка Лисянского «Мимоза-сан». Перед нами разворачивается огромное полотно событий военных лет.
Будучи на передовой, непосредственно в частях, которые выносили всю тяжесть войны, Марк Самойлович и его спутница Антонина Федоровна писали в дивизионной, а затем в армейской газете о тех трагических, а потом радостных минутах. Перед нами и нелегкий фронтовой труд журналистов. Наверное, впервые так емко рассказывается, как готовились к выходу в свет, порой под огнем, эти небольшие, но насыщенные яркими и правдивыми рассказами о фронтовой жизни газеты.
Повесть «Мимоза-сан» в некоторой степени и биографическая, о личной жизни Марка и Антонины, прошедшей через все испытания их большой любви. Эта книга входит в прозаический документальный триптих «Не только о себе». Над повестью М. Лисянский работал тринадцать лет, в том числе посвятил много времени изучению документов в Архиве Советской Армии в Подольске. Третья часть триптиха, названная автором «Воспоминаний слабый ветерок» (по Багрицкому), вышла в 2000 году под названием «Я по свету немало хаживал».
Остается неизданной первая часть – «Рассказы из одной жизни», посвященная николаевскому периоду жизни поэта.
Все издания Марка Лисянского на протяжении многих лет находились в центре внимания критиков, коллег по писательскому труду, читателей. Отзывы печатались в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Новый мир», «Юность», в газетах «Правда» и «Комсомольская правда».
Что же, главным образом, отмечали рецензенты в творчестве Марка Лисянского? О чем бы он ни писал, одна излюбленная тема, сама собой возникающая, повторяющаяся, – тема верности, дружеской преданности, – выстраданная, конкретная, что порой кажется биографическим свидетельством – забываешь, что перед тобой стихи.
Эта тема особо важна, если вспомнить, что она звучала в годы, когда торжествовало утверждение, что верность идее, дескать, превыше всего, выше дружбы, выше любви и родственных чувств. Лисянский своими стихами утверждает незыблемые основы нравственности. Он и сам называл по именам друзей – друзей детства, юности, фронтовых друзей, товарищей по перу. Вот уж кто совсем не эгоцентрист, так это Марк Лисянский. Редкость среди поэтов. Есть у него такие строки:
О художник без позы и жеста,
Ты мне дорог до капельки весь.
Еще одна очень важная сторона его творчества – он говорит о незащищенности добра:
Я пред словом жестоким немею,
Задыхаюсь чужой прямотой
И мучительно не умею
Поделиться своей правотой.
В одной из своих статей поэт Кирилл Ковальджи пишет: «Я благодарно любил Марка Лисянского. Он во многом мне помог. Но дело ведь не во мне, не я один его любил, не одному мне он помог. Негласно бытует мнение, что поэт – личность особенная, от прочих смертных отличающаяся. Дескать, порядочность сильно отдает обыкновенной прозой, тогда как поэт – фигура чрезмерная, искупающая свою житейскую ненормативность созданием высоких духовных ценностей. Однако в словаре четко сказано: „Порядочность – неспособность к низким поступкам”».
Понятия чести, порядочности должны быть насущными. И тут Лисянский для нас остается, бесспорно, образцом. Его любили многие, он был дружен с Евгением Долматовским, Львом Ошаниным, Михаилом Матусовским, Михаилом Исаковским, Михаилом Дудиным и другими. «Мы все любовью рождены», – настаивает Марк Лисянский.
Конечно, много писали о своем земляке и в николаевских газетах, и конечно, это были добрые слова в адрес талантливого доброго человека. Профессор Николаевского университета «Украина», он же большой энтузиаст изучения истории литературного Николаева Е. Г. Мирошниченко, который, кстати, в свое время успешно закончил Николаевскую среднюю школу № 34 и уже здесь начал знакомиться с творчеством Марка Лисянского, а затем, учась в аспирантуре Московского государственного университета имени Ломоносова, ближе узнав поэта, сказал о нем так:
«Меня поражала в Марке Самойловиче его родовая приверженность. Он не однажды и в личной переписке
с друзьями, и в выступлениях перед земляками, и в поэтических строчках внушал, что не следует заниматься уничижением, стесняться своей провинциальной биографии. В опубликованных воспоминаниях он подробно рассказывает о судьбе одноклассников, тех, с кем работал в цеху судостроительного завода, о соседских парнях, с которыми гонял футбольный мяч. Всем своим друзьям юности он был благодарен так же, как благодарен Спасской, Адмиральской, Сенной улицам, южному Николаеву, с его бугской прохладой. Все эти ранние впечатления сделали его поэтом. Здесь он впервые узнал цену художественного слова и получил признание среди друзей.
А что значит его лирическая формула: „Признал бы меня Николаев, признает тогда и Москва”? В них – убеждение, опыт судьбы и неизбывная вера. М. Лисянский всегда ощущал себя представителем города Святого Николая, степного Причерноморья. Он стал поэтическим голосом этого края. В его стихах узнаются мотивы А. Ахматовой, Э. Багрицкого, И. Бабеля, С. Кирсанова. Он и идентифицировал себя как наследник южнорусской школы отечественной литературы.
К сожалению, в нашем веке эти замечательные качества уже нечасто встретишь в биографиях поэтов, они стремятся напечататься в столицах и после этого объявиться с книжкой в родном городе. Такого рода прагматизм, гордыня плохо служат становлению творческой личности.
Лисянский – николаевский поэт, но и народный. Трудно представить поэзию ушедших десятилетий без его исповедальных и в то же время монументальных строк: „Я по свету немало хаживал...“, „У Черного моря прошло мое детство“ и многих других. Мне лично по душе все творчество М. Лисянского».
Во многих стихах Марка Самойловича – и житейская мудрость, и философское начало. Он не был трибуном. Но его негромкая, проникновенная поэзия, ее чуткие струны пробуждали и пробуждают в людях добрые чувства. Характерная черта его поэтической манеры – ясность, выразительность, афористичность, умение в лирических стихах говорить о значительном и сокровенном.
Приехав по приглашению в Николаев на празднование Дня города, 75‑летний Лисянский встречался с читателями в переполненном зале Клуба медработников на Черниговской улице. Был прекрасный день золотой осени... И казалось, что стихи, словно музыка, вплетаются в природу.
– А теперь, – сказал Марк Самойлович, – я прочту вам свое новое стихотворение «В чем жизни смысл»:
Средь прочих дум и дел,
Когда мне было двадцать,
В чем жизни смысл – хотел
Я все же разобраться.
Я прожил много лет,
Порой не сплю ночами.
В чем жизни смысл?
В ответ
Иной пожмет плечами.
Прочел за томом том,
Пора ума набраться...
В чем жизни смысл?
А в том, чтоб жизни удивляться.
Когда утихли аплодисменты, он добавил: – И все же жизни мало удивляться, ее нужно не только созерцать, но и осмыслить свое в ней место, в добрых делах. И, словно дополняя мысль, прочел стих «Сердце»:
А сердце, к сожалению, стареет,
В обрез его минуты и часы.
Оно не вечный двигатель...
Скорее, оно – как заведенные часы.
Ах, сердце!
И тревогу, и усталость,
И чью-то доброту, и чье-то зло,
И что бы только в мире ни случалось,
Все на себя немедленно брало.
И все надежды юности суровой,
И все разлуки горькие мои,
И поцелуй девчонки непутевой,
И все неотвратимости любви.
И чью-то душу, полную испуга,
И чью-то несвершенную вину,
И слезы матери, и гибель друга,
И всю четырехлетнюю войну.
Да мало ли!
Все тратим, что имеем,
Всем сердцем и страдая, и любя,
И мы его нисколько не жалеем.
А значит – не жалеем мы себя.
Он не жалел себя, всем сердцем служил людям, чтоб чувства добрые в нас пробуждать.
Борис Аров
Стихи
Надпись на книге
Наверно, это для кого-то странно,
Но я тут не придумал ничего:
Восходит солнце утром рано-рано
С надеждой, что вы встретите его.
И соловей из сладостного плена
Черемухи, исполненный любви,
Поет вечерний гимн самозабвенно
С надеждой быть услышанным людьми.
Я, радуясь возвышенному мигу,
В котором время чувствую свое,
Дарю вам эти строки, эту книгу
С надеждой, что прочтете вы ее.
Диалог с мамой
Из несуществующего дня
Спрашивает мама у меня:
– Как устроил ты свою судьбу?
Отвечаю:
– На своем горбу.
Что еще ответить я могу
Ей, чей голос в сердце берегу!
1990
Мы жили с ним на улице одной
Мы жили с ним на улице одной,
Откуда он, мой друг, расправив плечи
И распростившись весело со мной,
Легко шагнул судьбе своей навстречу.
И в школе мы одной учились с ним,
И даже на одной сидели парте,
И солнцем опаленные одним,
Гоняли мы футбольный мяч в азарте.
Он именитым стал на всю страну,
И я хвалюсь без зависти, по праву,
Не посягая на чужую славу:
– Мы школу с ним окончили одну...
Но если быть правдивым до конца,
Я так хочу, ведь мы с ним рядом жили,
Чтоб он, услышав про того юнца,
Сказал:
– Мы по одной с ним улице ходили.
1992
Диалог с золотой рыбкой
Ветер тронул листья, будто клавиши,
Дерево запело, словно скрипка,
И вздохнули беспечально ландыши,
Золотая вынырнула рыбка
И спросила у раба у Божьего,
Пристально взглянув прозрачным оком:
– Чем твое сердечко растревожено
В этом мире, трудном и жестоком?
– Не советчица и не пророчица, –
Продолжала рыбка золотая, –
Все добуду, что тебе захочется,
Я не Бог – волшебница простая.
– Я хочу, чтоб дерево, мной взращенное,
Возвышалось кроною густою,
Вечно молодое и зеленое,
Чтобы ты осталась золотою,
Чтобы листья пели, будто клавиши,
Ландыши вздыхали за оградой,
Чтобы жили все мои товарищи,
Ну а больше ничего не надо.
1992
Правдолюбы
Начну я, пожалуй, с Тридцатых,
Меня испытавших годов,
С вождей, и рябых, и усатых,
Кому был поверить готов.
Мы молча трудились в три смены,
Боялись ночной тишины.
Вокруг коммунальные стены –
И вздохи чужие слышны.
Но были такие, кто силы
Найдя против низменных сил,
У края безвестной могилы
Бесстрашною правдою жил.
Каких правдолюбов не стало!
Ты, мой современник, поверь:
В те годы их было так мало,
Значительно больше теперь.
Живем на крови и поныне,
На пепле, слезах и золе...
Ниспровергаем святыни
На многострадальной земле.
1992
Пути земные
Тебя водили сорок лет
Пустыней опаленной,
Чтоб выйти в свет, где рабства нет,
Из этого полона.
Томимый жаждой, ты шагал,
Перемогал напасти,
И выл в твоих ночах шакал,
И сердце рвал на части.
А впереди громады всей
Сквозь знойный день и темень
Шел босоногий Моисей,
Деля судьбу со всеми.
Ты съел с излишком соли пуд,
Во рту кипела пена,
Дабы избавиться от пут
Египетского плена.
Росли в пустынях города,
Ты шел, восстав из праха,
Чтоб внук не ведал никогда
Ни рабства и ни страха.
Пути земные не итожь,
Итоги знают боги.
А ты идешь, идешь, идешь,
И где конец дороги?..
1993
Женщине
Ваш взгляд и мертвого разбудит,
Ах, ослеплять привыкли вы
Декольтированною грудью,
И поворотом головы,
И шеей длинной, лебединой –
Вослед надежде и мечте,
И неприступностью невинной
На соблазнительной черте.
Давно не верите альбому,
Где вам твердили о судьбе,
Вы цену знаете любому
И цену знаете себе.
Как будто бы на акварели
Я вижу вас, всю вашу суть.
И если жесть, то еле-еле,
И коль улыбка, то чуть-чуть.
Не зря с извечною повинной,
Взглянув с божественных высот,
Своей прекрасной половиной
Вас человечество зовет.
1991
А музыка все выше
В ночь уплывает вечер,
Еще звучит струна...
И в музыке, и в речи
Нам пауза нужна.
Чтоб звуки не повисли
Над бездной немоты
И продолженье мысли
Достигло высоты.
Душа летит – не дышит
Под облачным крылом.
А музыка все выше,
За тишиною – гром.
И мы с тобой притихли,
Вбирая эту высь,
И век ли, день ли, миг ли
Над нами пронеслись.
А музыка такая,
Что длится наш полет,
И звук не умолкает,
И пауза поет.
1993
Шопен
Льется музыка Шопена,
Все вокруг озарено.
Погружаюсь постепенно
В грусть, известную давно.
Вижу наш перрон прощальный,
Предвечерний синий свет.
Ветер тихий и печальный
За тобой летит вослед.
Не сулит нам новой встречи
И шумит листвой едва...
Вижу этот самый вечер,
Вспоминаю те слова.
Сердцу тесно, сердцу сладко,
Не смолкают голоса.
Растворяюсь без остатка,
Поднимаюсь в небеса.
По себе я знаю точно,
И скажу я вам засим:
Люди любят слушать то, что
Хорошо знакомо им.
1993
Диалог с самим собой
Я сказал вам все, что смог,
Всей своей судьбой.
Самый трудный диалог –
Он с самим собой.
– Ты когда-нибудь хитрил
В жизни непростой?
– Я взбирался без перил
Лестницей крутой.
Я был молод, старым стал,
Воз тащил как вол.
Наивысший пьедестал –
Мой рабочий стол.
Родословный иудей
Православным слыл.
Не обманывал людей,
Сам обманут был.
Сам судьбу свою лепил,
Завершаю сам,
Чтил отца и мать любил,
Верен был друзьям.
Я смеялся больше всех
После неудач.
Смех сквозь слезы – разве смех,
Слезы – разве плач?
Стих мой краток, но не мал,
Вас не задержу.
Все, что я себе сказал,
Я вам доскажу.
1992
Сирень в Красновидове
Пахнет в дождь сирень призывно,
С наслаждением дышу.
Это, может быть, наивно –
Для наивных и пишу.
Пахнет морем, пахнет дымом
В беспечальной стороне,
Детством тем необходимым,
Что живет всегда во мне.
Пахнет весточкой от друга,
С кем делил мечту свою,
Благодатным ветром юга
В нашем северном краю.
Так пишу – за краской краску,
Так дышу – с собой в ладу,
Потому что эту сказку
Посадил я сам в саду.
1992
Пушкин в Николаеве
Плывут рекой туманные завесы,
Чтоб стать грозою, в небесах растаяв.
В Михайловское едет из Одессы
Поэт опальный через Николаев.
Конец июля. Он сквозь лето едет.
Здесь дружеские ценятся объятья.
У Стрелки корабли стоят на рейде,
Где Буг с Ингулом обнялись, как братья.
В морской столице Пушкин не впервые,
Не раз грустил над бугскою волною.
Поэт России, он гоним в России,
Гонимы все поэты под луною.
В сигнальных знаках движется фарватер,
Волна фрегат стопушечный качает.
Сам Грейг – и адмирал, и губернатор –
Поэта как товарища встречает.
Здесь он смеется в окруженьи милом,
Любуется закатом над рекою,
Здесь солнце он назвал дневным светилом,
Оно погасло, став его строкою.
Я памятью пронизан благодарной,
Вбирая опрокинутые дали,
Иду зеленой улицей Бульварной,
Которую мы Пушкинской назвали.
Обрушился акаций белый ливень,
Туманы каждый листик оросили.
И город Николаев осчастливлен
Им, кто любим и кто храним Россией.
1989
Никуда не деться
Видно, с жизнью в споре,
Никуда не деться,
Словно речка в море,
Я впадаю в детство.
Получая взбучку
За былые сказки,
Я впрягаю Жучку
В старые салазки.
Строю сам игрушки,
Не люблю подачки,
Ушки на макушке
У моей собачки.
Я люблю свободу,
Улицу и поле,
С маслом хлеб да с медом
Есть люблю на воле.
В двух шагах от смерти,
Вдалеке от дома,
Я боюсь, поверьте,
Молнии и грома.
Ближе к ночи жабы
Начинают квакать...
Я смеюсь, когда бы
Надобно заплакать.
Я люблю без скуки
Ноченькой метельной
Засыпать под звуки
Песни колыбельной.
И, минуя рифы
На пути к России,
Сочиняю рифмы
Самые простые.
Я даю вам слово,
От зимы оттаяв,
Возвратиться снова
В город Николаев.
Видно, с жизнью в споре,
Никуда не деться,
Словно речка в море,
Я впадаю в детство.
1990
Дорога к храму
Сквозь боль, сквозь подступающую полночь,
Когда померкнет свет, угаснет сила,
Я позову любовь к себе на помощь,
Она меня от всех невзгод хранила.
Твой взгляд, вобравший доброту и ласку,
И шум морской волны, и звуки вальса...
Я позову к себе на помощь сказку,
С которой никогда не расставался.
Встречая вечность как страну иную,
Где слиты все концы и все начала,
Я музыку услышу неземную,
Она меня от всех тревог спасала.
Я позову к себе на помощь маму,
Мою печаль, защиту и отраду.
У каждого своя дорога к храму,
Но этот храм еще построить надо.
1991
Мы все-таки вернемся
Вот здесь, под небесами,
Лежит наш путь начальный.
Прощание с друзьями –
Что может быть печальней!
Угрюмою и злою
Покажется граница.
Прощание с землею,
Где вышло нам родиться.
Последняя преграда,
Свободе сердце радо:
А может, так и надо,
А может, так не надо?..
Напрасные записки,
Ненужные упреки.
Все то, что было близким,
Становится далеким.
И славою сочтемся,
И слезы отольются.
Мы все-таки вернемся,
Но годы не вернутся.
Распахнутое эхо
Летит путем открытым.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Безвестным ты уехал,
Приехал знаменитым.
1990
Страна любви
Любовь – страна большая,
Ее пути легли
От края и до края,
От неба до земли.
Там не дома, а храмы,
Сады и соловьи,
Там дочери и мамы,
Достойные любви.
В ней никому не тесно,
Кружится голова,
Тут повторить уместно:
Любовь всегда права.
В ней – долгожданный вечер,
Касанье милых рук,
Разлука ради встречи
И встречи без разлук.
Старинный звон гитары,
Весенний шум листвы,
Парижские бульвары
И улицы Москвы.
Прозрачные березы,
Душистая трава,
И радостные слезы,
И щедрые слова.
Совсем не ради хлеба,
Свободные вполне,
Любуйтесь этим небом,
Живите в той стране!
1988
Романс
Ушли элегии и стансы,
Но их настанут времена.
Напевом русского романса
Моя душа покорена.
Любовь забвения не знает,
Лишь прикоснется к нам едва –
Какая музыка пронзает!
Какие вечные слова!
Плывет мелодия земная,
Царит в небесной вышине.
Я лучше радости не знаю,
Чем грусть, звучащая во мне.
В тиши туманной тают тени
Неутихающих забот.
Я слышу чудное мгновенье,
В котором Анна Керн живет.
Живешь и ты, моя отрада,
В тех звуках, что уходят вдаль,
И лучшей радости не надо,
Чем эта чудная печаль.
Мне никуда теперь не деться
От всех невысказанных слов,
И выговаривает сердце:
«И жизнь, и слезы, и любовь...».
1988
Автопортрет
Не смотрю на фотографию
Далеко ушедших лет,
Завершаю биографию,
Создаю автопортрет.
Я крещен водой соленою,
Южным ветром окрылен,
Вместе с долей обделенною
Ждал всегда иных времен.
А родился я у Черного,
Среди чаек и челнов.
Нет ни звания ученого,
Ни каких таких чинов.
В жизнь влюблен, влюблен без меры я,
В мир во все глаза гляжу,
Голубые – нынче серые,
Нос по ветру не держу.
Шел от полюса до полюса,
Открывая города.
Снегом пусть заносит волосы,
Душу – это вот беда!
Жажда жизни не уменьшилась,
Хоть слеза туманит взор.
Любовался чудо-женщиной
И любуюсь до сих пор.
Верил: небом мне заказана
Эта самая строка.
Жил да был, как в сказке сказано,
И живу еще пока.
Не смотрю на фотографию
Далеко ушедших лет,
Завершаю биографию,
Создаю автопортрет.
1990
Завещание друзьям
Я хочу, друзья, в конце концов
В Николаев к маме возвратиться,
В город наших дедов и отцов,
Чьи уже неразличимы лица.
Чтобы в землю лечь на берегу
Широко распахнутого Буга.
Это место с детства берегу,
Там сейчас печальный холмик друга.
Пусть под николаевской звездой,
У земли, заплаканной и милой,
Реет белый парус над водой,
Простирая крылья над могилой.
1990
Белый парус
200 лет городу Николаеву
Я жил, деля с великою страной
Тревоги, и обиды, и печали.
И город Николаев был со мной,
Его лиманы и его причалы.
Я вновь стою на этом берегу,
Все то, что минуло, – со мною рядом,
И надышаться Бугом не могу,
И белый парус провожаю взглядом.
Сюда я приезжаю как домой,
Где б я ни жил, куда бы ни поехал.
Благодарю прекрасный город мой
За то, что был он в жизни первой вехой.
За то, что душу он помог сберечь,
За то, что детство в нем мое осталось,
За то, что здесь я сбрасываю с плеч
Мои заботы и мою усталость.
За то, что я грустил о нем вдали,
За то, что был он другом и судьею,
За берег, где я строил корабли,
За белый парус над моей судьбою.
Август 1989
Морю Черному
Я вдыхаю Черное море,
Морем с малого детства дышу.
Я уехал из детства вскоре,
Только письма туда пишу.
Я уехал от моря сразу,
Не уехал – меня увезли.
Я запомнил его синеглазым,
Белозубым, у края земли.
Не прибой – а Иван Поддубный,
Для которого все пустяк:
Он подбрасывал лайнер трехтрубный,
Как на легкой ладони пятак.
Я запомнил широкоплечим,
Работящим и сильным его...
Наши первые детские встречи
С этим миром – дороже всего!
И когда кто-то больно обидел
Шестилетнюю душу мою,
Я сквозь горькие слезы увидел
Море в том незабвенном раю.
И чернилами – синим по белому –
В царство чаек и сказочных скал
Морю сильному, доброму, смелому
Я письмо написал и послал.
Так и было – верьте не верьте! –
Буква с буквою шли, семеня,
И выстраивались на конверте:
Морю Черному –
От меня.
И теперь, если вдруг случится,
Что обида ударит в лицо,
Я пишу – и по свету мчится
Морю Черному
письмецо.
Мне видны и по-прежнему любы
Все витки на его волне.
Синеглазым и белозубым
Море снова идет ко мне.
Я вдыхаю Черное море,
Морем с малого детства дышу.
Я уехал из детства вскоре,
Только письма туда пишу.
1966
В детстве был я Робеспьером,
Брал я Тьера на прицел.
Я хотел быть самым первым,
Самым смелым быть хотел.
Из бетона и железа
Воздвигал мечту свою.
И со мною «Марсельеза»
В пионерском шла строю.
Строил Эйфелеву башню,
Не достроил – ну и пусть!..
Эту башню, словно басню,
Я запомнил наизусть.
Жанну д'Арк спасал от кары,
По камням бастильским лез.
Я стоял средь коммунаров
У стены на Пер-Лашез.
Ах, давно все это было,
От Парижа вдалеке.
То, что было, то проплыло
По Ингулу по реке.
Я грущу над речкой Сеной,
Над неслышною волной.
Понимаю постепенно,
Что Париж передо мной.
Букинист у парапета,
Франк мой – весь его барыш...
Я гляжу, гляжу на этот
Непрочитанный Париж.
1966
Корабелы
Над лиманом парус белый
И акации в снегу.
Вижу город корабелов
На высоком берегу.
Корабелы, корабелы,
Снова я в семье родной.
Парус белый, белый, белый –
Надо мной!
Под мостом Ингул струится,
Корабли качает Буг...
Дай воды твоей напиться,
Я твой сын и я твой друг!
Ты мне был родным порогом,
Первым городом любви.
И по всем морским дорогам
Корабли идут мои.
С каждым годом ты все ближе,
Мой причал и мой привал.
Я и в городе Париже
Николаев вспоминал.
Корабелы, корабелы,
Снова я в семье родной.
Парус белый, белый, белый –
Надо мной!
1966
В детстве
Был ветер в детстве вкусным,
И снегом пахло мыло,
И то, что стало грустным,
Веселым в детстве было.
Хлеб с солью – объеденье,
А с сахаром – тем паче!
И было меньше денег,
И было все богаче.
Ешь флотский борщ, вдыхаешь –
И тонешь в аромате,
И тут же уплываешь
На парусном фрегате.
Ходил я в капитанах
Под северной звездою,
Мечтал о дивных странах
За маминой едою.
Я был большим и сильным,
Глядел орлиным взором.
Ингул был синим-синим,
И пахла речка морем.
Потом я шел в походы,
Потом я плыл в туманы.
И годы-пароходы
Прошли все океаны.
Со мной восток и запад,
Но нет со мною средства
Тот прежний цвет, и запах,
И вкус вернуть из детства!
1967
Наши матери
Хлеб-соль всегда на чистой скатерти,
В любом окне горят огни.
Нас ждать умеют наши матери –
И только матери одни!
А мы не едем – все успеется,
Полно хлопот в своем дому.
А мать нас ждет,
А мать надеется,
Иначе жить ей ни к чему.
А мы не едем – нету времени,
У нас – любовь,
У нас – дела.
А время лупит нас по темени –
И голова белым-бела.
Дышу печалью молчаливою –
Всему, как видно, есть предел, –
Хотел я сделать мать счастливою,
А вот не сделал... не успел.
И надо б ей пустяк, наверное,
Нет, ничего не надо ей.
О бескорыстие безмерное
Многострадальных матерей!..
Жилось бы только нам без горестей,
Скорее бы росли сыны,
Да без волнений и без хворостей,
Да вот чтоб не было войны.
На сердце – сны,
На сердце – вмятины,
Не зарубцуются они.
Прощать умеют наши матери –
И только матери одни!
1967
Я приезжаю в город Николаев
Я приезжаю в город Николаев,
Иду один по улице Сенной.
Со мною шум акаций,
Звон трамваев,
Но молодости нет уже со мной.
Ах, жизнь, твои пути необратимы,
Но нам они и в смертный час видны.
Я приезжаю к другу-побратиму,
Он не вернулся до сих пор с войны.
Я приезжаю в собственное детство,
Которого – по всем приметам – нет,
Я приезжаю в милое соседство
Девчонки, чей давно затерян след.
Как медлит поезд пассажирский,
Скорый!
Как устарели нынче поезда!..
Я приезжаю к матери, которой
Нет и не будет больше никогда.
И все-таки я еду, еду, еду,
И все-таки спешу, спешу, спешу
По вечно зеленеющему следу –
Пока живу,
Пока дышу!
1968
Возвращаться в те места,
Где ты молод был,
Печально.
Все, что там, – первоначально:
И любовь и красота.
Возвращаться в те места,
Где ты молод был,
Опасно:
Там тебе предельно ясно,
Кем ты был и кем ты стал.
Возвращаться в те места,
Где ты молод был,
Приятно.
В юность нет путей обратно,
Но с тобой твоя мечта.
1968
Родословная
Мой дед не знал древнееврейского
И говорил со мной на идиш.
Он был из племени плебейского,
Теперь таких и не увидишь.
Не тяготел к образованию
И не учил родного сына.
Он был сапожник по призванию,
А походил он на раввина.
Носил ермолку. Холил бороду.
И лапсердак имел когда-то.
Он полюбил работу смолоду
И лишь в работу верил свято.
Смеялись узенькие пейсики,
Когда, зажав ботинок старый,
Под ручеек еврейской песенки
Он гвоздь вгонял одним ударом.
Дни унижений хуже бедности,
Года гонений горше горя.
Черта обид,
Черта оседлости
Прошла у самого у горла.
«Еврей!» – кричали ночью жуткою
И «жид» писали на заборе.
Веселой шуткой-прибауткою
Он прикрывал нужду и горе.
Смеялись все. Смеялся дедушка.
Смех – утешительное средство.
И я смеялся. Нынче где уж там
Смеяться так, как в раннем детстве.
Спасенный добрыми соседями,
Он снова с шуткой жил в союзе.
Сплелись трагедия с комедией
В один тугой и крепкий узел.
Кормилец наш – отец мой, стало быть, –
Слыл у евреев грубияном.
Грузил мешки и драил палубы,
Умел кувалдой и наганом.
Глушил отец сивуху лютую
И сало ел со смаком южным,
С винтовкой шел за революцию
Октябрьской ночью,
Степью вьюжной.
Он задыхался гарью газовой
На самой кромке смертной бездны...
Он байки русские рассказывал
И пел украинские песни.
Вот вся, пожалуй, родословная,
Моя печаль,
Мое наследство,
Моя история дословная,
В которой жило-было детство.
Я рос под небом Николаева,
Где дружат улицы и реки.
Я не забуду никогда его,
Не изменю ему вовеки.
Горит костер
Звездой туманною,
Его и время не задуло.
Была землей обетованною
Земля меж Бугом и Ингулом.
Мы не имели хлеба лишнего,
Но нам был сладок воздух вольный.
Мой первый друг – Володя Ищенко,
Иван Фомин – товарищ школьный.
Костер над водами зыбучими
Там, где Ингул выходит к Бугу!..
О нашей дружбе слов заученных,
Не говорили мы друг другу.
Делили радости и горести,
И даже тайны поначалу.
Мы были братьями по совести
И по Интернационалу.
Боготворили мы Отечество,
Мир остальной не поносили,
Умом любили Человечество,
Но душу отдали России –
С ее восходами,
Закатами,
С ее молитвами и снами...
Мы были все ее солдатами,
Мы были все ее сынами.
Ее любили мы,
И нам она
Святую матерь заменила.
...Забыл, что я – потомок Нахмана
И сын еврея Самуила.
Война путями вероломными
Вдруг ворвалась в мои твердыни.
– Еврей! –
Фашисты мне напомнили,
– Еврей! –
Анкеты подтвердили.
Беда, как водится, не медлила,
Стреляла в детство,
Била в старость.
И тут окончилась комедия,
И лишь трагедия осталась.
Кричат живые рвы и камеры,
В последнем крике газом дышат.
И только мертвый,
Только каменный
Те голоса сейчас не слышит.
Мне Николаев скорбный видится,
Мой город в траурной печали,
Огонь Освенцима и Лидице
Ко мне врывается ночами.
Давно мой дед в тиши кладбищенской,
А где отец мой похоронен?..
Иван Фомин,
Володя Ищенко
Меня встречают на перроне.
Дышу акациями нашими,
Землею, где мы жили-были.
И ни о чем не надо спрашивать,
И ничего мы не забыли.
Земля засеяна и вспахана,
Для мертвых – братская могила.
...Смеется мальчик – правнук Нахмана
И внук еврея Самуила.
Февраль 1968
Моя философия
Человек богат
Не наследством,
А своим босоногим
Детством.
Человек богат
Не вещами,
А дорогами –
За плечами.
Человек –
Понимаете сами! –
Не рублями богат,
А друзьями.
И живет человек
Не по средствам
С неразменным
Этим наследством.
1968
Акация
Акация!
Весь Николаев
Тобою пропах,
И светлыми улицы стали,
Тобой озаренные.
Сияют деревья
Под кипенью белых папах,
Помолодевшие,
В город весенний
Влюбленные.
Вдыхаю
Бесценный и редкостный
Этот букет
И медленно пью
Твои слезы.
Чуть-чуть горьковатые.
И снова мне
Десять, двенадцать,
Четырнадцать лет...
Ах, годы!
Они предо мной –
Без вины виноватые.
Забыты давно
И свои, и чужие грехи,
Но в памяти нашей
То время навечно останется,
Когда из акаций
Мы делали в мае духи
И в сентябре их дарили
Девчонкам-избранницам.
55
Иду сквозь деревья
Под радугой майского дня,
Вся в белом Сенная,
Родная до камешка
Улица.
Вот и акация,
Которая помнит меня
И которая мной
Никогда и нигде
Не забудется.
Прощаемся с маем,
Встречаем с тобою июнь,
Акация,
Ты – моя спутница
Самая лучшая,
Белая, белая,
Как метель
И как лунь,
И такая цветущая,
И такая колючая...
1969
Старинный романс
Домик старенький твой лишь во сне посещаю,
Твой сиреневый сад вспоминаю весной.
И старинный романс я тебе посвящаю,
Потому что давно это было со мной.
А тогда я не смел в этот дом постучаться,
А тогда я не смог твой порог перейти.
В том волшебном году было нам по семнадцать,
В том весеннем саду было все впереди.
Я из детства ушел, как уходят из сада,
Ты покинула юность – свой дом голубой.
Миновали года, и под шум листопада
Все мне кажется: жду я свиданья с тобой.
Домик старенький твой лишь во сне посещаю,
Твой сиреневый сад вспоминаю весной.
И старинный романс я тебе посвящаю,
Потому что давно это было со мной.
1969
Сад
В семи километрах от Балты,
У звонкой реки Тилигул,
За рыжею впадиной балки
Пчелиный колышется гул.
Над той тилигульской волною
От яблонь взлетают дымки,
И к Черному морю весною
Лиманом плывут лепестки.
На травах настоянный запах
Медовую гонит струю.
И яблони в белых папахах
Стоят в безупречном строю.
Их волосы не поседели,
Они не в снегу, а в цвету.
А рядом село Пасицелы,
Где яблони те на счету.
Здесь людям привольно живется
В нелегких делах и трудах.
Вода голубая в колодцах,
Зеркальные карпы в прудах.
Пшеница в полях золотится,
Весомая в этом году.
Но я, да простит мне пшеница,
О яблонях речь поведу.
Тот сад над обрывистым яром
Никак позабыть не могу.
Там двести четырнадцать яблонь
Сияют в цвету, как в снегу.
Есть радости в домике каждом,
Но помнит родное село,
Что двести четырнадцать граждан
С последней войны не пришло.
И в знак отошедших печалей –
Не памятник в бронзе оград –
Задумали однополчане
Создать долгопамятный сад.
И вот он цветет на просторе,
Сверкает в алмазах росы,
Да так, что и Черное море
Светлеет от здешней красы.
И вот уже сад плодоносит
И пахнет отрадой земной,
И вот наливается осень,
Как яблоко, летней зарей.
Он входит сегодня в легенды,
Шумит молодою листвой.
Склоняются монументы
Пред памятью этой живой.
В жару он спасает от жажды,
Он тень предлагает свою.
И двести четырнадцать граждан
Стоят в безупречном строю.
1973
Отец
Жили мы на юге Украины,
В солнечном, зеленом городке,
Где акаций снежные вершины,
Где белеет парус на реке.
Мой отец – простой портовый грузчик –
Двадцать девять лет таскал мешки.
Шириною плеч его могучих
Любовались даже моряки.
Элеватор у воды бессонной!
На заре отец шагал сюда –
Разгружать товарные вагоны,
Нагружать торговые суда.
Он работал, силою играя,
И, бывало, со своим мешком
Ночью шел, покинув Николаев,
В города соседние пешком.
Знал в Одессе, кто бывал у моря,
А в Херсоне – каждый паренек
Грузчика Лисянского, который
Поднимал, как перышко, мешок.
По отвесной лесенке портовой,
Узкой, шаткой, он поклажу нес.
И лежал мешок шестипудовый
Неподвижно, будто в плечи врос.
Счастья не просил отец у бога,
Не пытал и не молил судьбу.
Правда, верил, да и то немного,
В груз, лежащий на его горбу.
Так работал, что в глазах плясало
И пересыхало все во рту,
Но зато раз в сутки ел он сало
С житняком. И тут же спал, в порту.
Он трудился до седьмого пота,
Не жалел здоровья своего.
Нет, не годы – адская работа
Раньше срока сгорбила его.
Он обиделся на жизнь чертовски
И грозил кому-то кулаком...
Мне всегда казался горб отцовский
Затвердевшим на плечах мешком.
А когда у нас в порту набатом,
Эхом прогремел «Авроры» залп,
Мой отец ушел на фронт солдатом,
Ленину служить, как он сказал.
Жизнь его цветами не встречала,
До всего дошел своим путем.
Он поверил в Ленина сначала,
А в себя поверил он потом.
Он с войны гражданской воротился,
Будто выпрямился в полный рост.
В партию вступил и все гордился:
«Ленин мне доверил этот пост...».
Мне простят, что слишком затянулся
Мой рассказ от первого лица.
Много лет прошло...
И я вернулся
В город детства, словно в дом отца.
Снег акаций. Улицы прямые.
Старый николаевский причал.
Здесь я имя Ленина впервые
От отца родного услыхал.
1955
Дума о матери
Сын не забыл родную мать.
А. Блок
Над Ингулом, над берегом кряжевым
Проплывает закат,
Задевая крылом оранжевым
Два окна, обращенных в сад.
Грянув громом, гроза весенняя
Пролилась тишиной.
Майский вечер в цвету сиреневом,
Воздух чистый, прозрачный, хмельной.
Нет, не дышишь, а досыта пьешь его,
Подымаясь слегка.
Очень дорого. Очень дешево.
Сам хозяин, и гость, и слуга.
Пролетают шмели мохнатые,
Суетятся скворцы –
Путешественники крылатые, –
Занимая свои дворцы.
Бочагами, оврагами, балками
Овладели ручьи.
Пьют из них воробьи. Между галками
Белоносые ходят грачи.
Под нарядным пахучим вишеньем,
Где горит первоцвет,
«Добрый вечер!» – над миром слышится,
«Вечер добрый!» – звучит в ответ.
Открывает калитку знакомую
И ведет меня в дом,
Невысокая, невесомая,
В маркизетовом платье цветном.
Ради праздника самого светлого –
Сын приехал родной! –
Ты надела платье заветное,
Вечера проводишь со мной.
...Этажерка. Повести Пушкина.
Блок. Майн-Ридовский том.
Шкаф. Комод. И часы с кукушкою...
Все на месте. На прежнем. На том.
И китайская роза, и фикусы,
И меж окон портрет,
Нарисованный после выпуска,
Где мне только шестнадцать лет.
Все, как раньше, как было, – не тронуто.
Лепестки намело.
Это детская. Это комната,
Где хранится детство мое.
Все, как раньше. С места не сдвинуто.
В окна смотрится сад.
Может, это давно покинуто
Или месяц назад?..
На столе в бокалах пунцовое,
Молодое вино,
Что не кружит бедовую голову –
Кровь кипеть заставляет оно.
От моченого яблока белого
До медовых вертут –
Все твоими руками сделано
И поставлено бережно тут.
Жест знакомый: поправила волосы,
Побелевшие вдруг.
Все родное – в глазах, и в голосе,
И в привычном движении рук.
И в морщинах бессонных...
Мне вспомнилось,
Что всего год назад
Телеграмму я слал. Исполнилось
В майский день тебе пятьдесят.
Ты сидишь у веселой скатерти,
Грустно смотришь без слов.
Так глядят одни только матери
На своих ненаглядных сынов.
Предзакатное солнце из пламени
Опускается в дым.
Алый шелк озаренного знамени
Стал от пыли походной седым.
В этом чистом, волшебном сиянии
Шла мечта напрямик.
И растаяло расстояние,
И полуденный берег возник.
Гавань. Улица. Мать возле домика.
Боль таится в глазах.
Двор и сад обступила черемуха,
И цветы в росе, как в слезах.
Мчится к Бугу Ингул, чтобы вырасти
В черноморский прибой,
Чтоб все штормы и бури вынести
И остаться самим собой.
Я хотел бы пройти все лишения
Каплей в общей судьбе,
Через горькое море сражения
Пронести свое сердце к тебе.
Чтоб на месте самом возвышенном,
У счастливых вершин,
Ты сказала во всеуслышание:
«Это мой сын!».
Мать! – и правда становится истиной.
Мать! – и чище нет слез...
Через все перроны и пристани
Ветер боль материнскую нес.
Скрылись временем вдаль уносимые
Люди и города.
Забывали даже любимую,
Только мать – никогда!
Имя матери родине дарится,
И вернее всего
В этом имени не состарится
Поколений святое родство.
*
В темень, в дождь, по весенней распутице
Лег полночный маршрут.
И колеса крутятся, крутятся,
Грязь косматые кони мнут.
Позади сраженье за Мешково,
За Гороховку бой.
Повернули танки, не мешкая,
На Терновку и Водопой.
Ночь заснула в степи как убитая,
На сто верст разлеглась.
Под подошвами и под копытами
Сочно чавкает грязь.
Опрокинулось вязкое месиво
Туч, тумана и тьмы
Нескончаемой плотной завесою...
Сквозь нее пробиваемся мы.
Все промокнет до нитки, до гвоздика,
Хоть в железо одень.
Лишь три вещи не тронуть дождику:
Это порох, табак да кремень.
По разбухшей дороге грейдерной,
Через озеро вброд
Мы шагаем молча и медленно,
Как слепые – руки вперед.
Темнота такая, что лошади
Налетают на нас.
Не сгибайся под ратною ношею!
Не смыкай утомленных глаз!
С каждым шагом ноги свинцовые
Тяжелей, тяжелей.
Опускай, поднимай и снова их
Опускай – сапог не жалей!
Нам осталось идти по распутице
Только тридцать минут...
А колеса крутятся, крутятся,
Грязь косматые кони мнут.
Город мой! Застилает мгла его
Да волна высока.
С трех сторон подошли к Николаеву
Наступающие войска.
*
Пароход «Непокорный» у пристани.
Сбита миной труба.
На холме, за чертою мглистою,
Сиротою стоит изба.
А бывало, по морю просторному
Из Одессы сюда
Плавал я на борту «Непокорного»,
А навстречу – суда.
Поднимал пароход с пшеницею
Набегающий вал...
Душно. Душно. Все это снится мне!
Разве так мой город вставал!
Элеватор. Доки. За доками,
Там, где ширится Буг,
Трубы, трубы, как мачты далекие,
Двух заводов и верфей двух!
Наклоняя крыло серебристое
До прозрачной воды,
По лиману, лазурью чистою,
Мчалась яхта. А мимо – сады.
Там все первое! Яблоня белая.
Первый гром. Первый класс.
Книга первая. Девушка первая,
О которой помнишь сейчас.
Душно. Душно. Пар над лощиною
Предвещает грозу.
Будь солдатом и будь мужчиною,
Вспомни клятву и вытри слезу.
*
Много рек по раздолью российскому
Разлилось, разлилось
Берегами крутыми и низкими,
Мимо сосен, черемух и лоз.
Кто не помнит зеленого дерева
У реки, у пруда,
На востоке, на юге, на севере,
Где поет золотая вода!
Кто не помнит морщинки печальные
Возле ласковых глаз,
Вековую минуту молчания
И напутствие: «В добрый час!».
Кто не помнит желанного берега,
Уходящего в тьму!..
Плыли мы, открывали Америку,
Но всегда возвращались к нему.
*
Над карнизом кирпичного здания
Прикрепляет моряк
Флаг, прошедший все испытания,
В битву рвущийся флаг.
Стелет ветер над черными бурками
Кумачовые башлыки.
Мчатся конники закоулками
И выходят на большаки...
Отрезая пути отступления
К перешейку, туда
Устремилась вода весенняя,
Наступающая вода.
Долго тянется улица длинная, –
А короче была.
Я бегу... Трамвайная линия
Мне дорогу пересекла.
Я бегу тропинками талыми
Все быстрей и быстрей,
Обезглавленными кварталами,
Где гудит лебеда у дверей.
Куст умылся росою чистою,
Задышал теплотой.
Появился уже между листьями
Лепесток молодой.
Вот и сад наш!
Сквозь зелень колючую
Мчусь, мечту затая:
Выйдет к сыну самая лучшая
Мама... Мама моя!
Распахнет калитку зеленую,
Не поверит глазам.
И заплачут морщинки бессонные,
И вот-вот разрыдаешься сам.
В ржавом прахе обломков каменных
Затерялась тропа.
И стоит, как могильный памятник,
Предо мною печная труба.
*
Юг и север, любое селение,
Николаев, Москва
С восхищением и волненьем
Произносит: «Россия жива!».
И когда, опаленная жаждою,
Каменела трава,
Каждый стебель и дерево каждое,
Каждый колос кричал: «Жива!».
Я бегу по весеннему городу,
По следам торжества,
Повторяя то с болью, то с гордостью,
То с надеждой: «Жива! Жива!».
Видел мертвых в баржах карательных,
В душной пропасти рва.
Каждый труп осмотрел, но матери
Не нашел. И решил: «Жива!».
Сохраню под пулей, под пыткою
В сердце эти слова
И пред новой зеленой калиткою
В тишине повторю: «Жива!».
Настежь окна! В своем дому она!
Сад. Закат. Синева.
Добрый вечер, Елена Наумовна!
Верю: жива.
28 марта – 12 мая 1944
Я начал мечтать впервые
На солнечном берегу.
Воспоминанья живые,
Как волны, встают на бегу.
Простор открывается взору,
В душе остается навек...
Мне кажется, начал у моря
Впервые мечтать человек.
1939
Детство
Помнится и мне, что с малолетства
Был я дальним берегом влеком.
О мое простуженное детство,
С леской, без фуражки, босиком!
Это потому, что очень близко
От морской воды, где вечен шум,
Я родился в комнатушке низкой,
Темной и угрюмой, словно трюм.
Или потому, что в том матросе,
Кто без колебанья взял штурвал
И повел восставший броненосец,
Я черты родимые узнал...
Ветер поднимается матросский,
К берегу волна спешит опять.
Никакой великий Айвазовский
Море не сумеет передать.
Даль шумит, как будто по соседству.
Воздух синий. Дышится легко.
О мое простуженное детство,
Ты уплыло в море далеко!
1934
Повесть
Я кинул: «За мной, ребята!», –
Когда командир упал,
Сраженный из автомата
Пулею наповал.
Земля подняла на воздух
И бросила сердце мое
В падающие звезды,
В синее небытие.
Когда я очнулся,
Блистало
Солнце над головой,
Шли облака...
И стало
Понятно, что я живой.
Это не личное чувство,
Которым легко владеть.
Жизнь на земле – искусство,
Давно победившее смерть.
Если рванется тупая
Боль к тебе напрямик –
Это не смерть наступает,
А жизни последний миг.
Я снова услышу твой голос,
Увижу тебя наяву...
Сердце не раскололось,
Я на земле живу!
1941
Моя Москва
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную площадь
И Кремлевских курантов бой.
В городах и далеких станицах
О тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков.
И в сердцах будут жить двадцать восемь
Самых смелых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
1941–1942
Город над Ингулом и над Бугом,
Отраженный с трех сторон водой,
Ты мне оставался верным другом
Под холодной северной звездой.
Словно в детстве, твой прибой встречаю
И кричу сквозь орудийный гром:
– Здравствуй, здравствуй, город Николаев!
Ты нас ждал, и мы к тебе идем! –
Я кричу и вижу, будто в сказке,
За рекою первый твой квартал...
Узнаешь ли голос мой солдатский?
Ты его мальчишеским знавал.
Есть у всех незаменимый город,
Есть незаменимые друзья.
Город свой нельзя оставить в горе,
Так с друзьями поступать нельзя.
Николаев, боль моя живая,
Может, день остался, может, час,
Чтобы ты, сквозь слезы улыбаясь,
Встретил под акациями нас.
25 марта 1944
Красавица
По тропинке поднималась
В гору девушка одна.
Я красавиц знал немало,
Всех красивее она!
И скромна, и горделива,
И короною коса...
Нет, не девушка, а диво,
Нет, не диво, а краса.
Нет, не девушка – царица,
Не царица, а мечта...
На такой бы вот жениться –
Как родник она чиста.
Я на миг остановился,
Впрочем, дело не во мне,
Я уже давно женился
И доволен тем вполне.
Поднималась недотрогой
В гору, будто на престол.
Я пошел своей дорогой,
Только ахнул – и пошел.
Чуть качнула тонким станом,
В косах – золото и медь...
Не женитесь, хлопцы, рано,
После будете жалеть!
1953
Моя родина
Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живем,
Мы родиной светлой,
Мы родиной милой,
Мы родиной нашей зовем.
Люблю Украину,
Байкальские воды,
Кавказские горы в снегу.
Широкие степи,
Седые вершины
Я в сердце своем берегу.
У Черного моря
Прошло мое детство,
В Москве я учился и жил,
Работал на Буге,
Рыбачил на Волге,
В Ростове солдатом служил.
И где бы ни жил я,
И что бы ни делал,
Пред родиной вечно в долгу.
Великую землю,
Любимую землю
Я в сердце своем берегу.
1953
Николаев
Я родился не в этом городе,
Только так случилось, что в нем
Детство кончилось,
Встретила молодость
Мир, распахнутый за окном.
Как ни странно, а ты состаришься,
Юность позатеряет след.
Но вовек не забудешь товарища
Школьных невозвратимых лет.
Не забудется,
Нет, не забудется
Дом просторный на Рыбной улице,
На доске – белоснежный мел,
Парта с буквами М. и Л.
Будешь помнить до детской жалости
Путешествие ранней весной,
Дружбу первую,
Школьные шалости
И косички девчонки одной...
Наша дружба
Годами испытана,
Знала цех, и рабфак, и войну.
Сядь со мною,
Лариса Никитина,
Как бывало, за парту одну.
Я стремился быть лучше, отважнее,
Чтоб вниманье твое заслужить.
Безуспешно задачку каждую
Я старался первым решить.
...Холодком осенним овеяна
Школа. И как будто сейчас
Торопливо
В притихший класс
Входит Клара Ефимовна Левина.
Молодая. Красивая. Строгая.
С ней мы верили в очень многое
Из того, что мы счастьем зовем,
Из того, чем поныне живем!
Все, как было:
Сияют радужно
Окна. Парта. Улыбки девчат.
Наша парта!
Мы сели рядышком.
Я с Ларисой.
И все молчат.
Нам у времени детства не вымолить,
Что ж вы смолкли, мои друзья?..
Что-то горло сдавило – и вымолвить
Ни единого слова нельзя.
Не забудется,
Нет, не забудется
Город, заново ставший мечтой.
Николаев. Рыбная улица.
Дом просторный на улице той.
1954
Первые мозоли
А. Лавуту
Гудит гудок.
Я на пороге дома.
Трубит, зовет гудок.
Меня зовет!
И я иду по улице знакомой
На мой судостроительный завод.
Два океанских якоря у входа.
Осталось четверть часа до семи.
Идут, идут работники завода,
Как будто братья из одной семьи.
Мы почитали за большое счастье,
Когда в цеху кого-нибудь из нас
Улыбкой дружелюбной встретит мастер
И скажет:
«Добрый день, рабочий класс!».
Я начинал работать раньше смены,
Зажав болванку накрепко в тиски,
И по зубилу бил самозабвенно,
И кровь сочилась из моей руки.
Меня бросало в жар,
Меня знобило,
Но я не успокоился, пока
Не научился с бесшабашной силой
С размаху бить, не глядя на зубило,
И попадать в него наверняка.80
В ладони молоток сжимал до боли
И был безмерно счастлив, горд и рад,
С волненьем ощущая, как мозоли
На собственной руке огнем горят.
Не зря же, одолев свое смущенье,
Как бы взойдя на новый перевал,
Я сочинил в обед стихотворенье
И Первыми мозолями назвал.
Наверно, в нем была такая сила,
Такой кипел в душе моей порыв,
Что стих многотиражка поместила,
Всего четыре строчки сократив.
Большой завод мне домом стал родимым,
Я рос в его отеческом тепле,
Я чувствовал себя необходимым,
Рабочим человеком на земле!
1959
Когда поют солдаты
Шагает ночь к рассвету.
Труба зовет в поход.
Солдат Страны Советов
О родине поет.
Безусые комбаты
Ведут своих орлят.
Когда поют солдаты,
Спокойно дети спят.
Подхватим песню, братцы,
В поход возьмем, друзья,
Нам с песней расставаться
Сейчас никак нельзя.
Послушны автоматы,
Машины держат ряд.
Когда поют солдаты,
Спокойно дети спят.
Сады плоды роняют,
Трава горит в росе.
Лежит земля родная
Во всей своей красе.
Храним ее мы свято –
От Братска до Карпат...
Когда поют солдаты,
Спокойно дети спят.
Земля зарей объята,
Знамена впереди.
Без песни нет солдата,
Без песни нет пути.
Рассветы и закаты
Навстречу нам летят.
Когда поют солдаты,
Спокойно дети спят.
1960
Берег
В это памятное утро
Из полярной бухты Тикси
В дальний рейс
На север дальний
Вышел караван судов.
На одном из теплоходов
Девушка была, с которой
Я расстался на рассвете
Ровно год тому назад.
Я послал письмо на Север,
Я ее просил не ехать,
Пожалеть себя и маму,
Вспомнить дружбу и любовь...
И она, жалея маму,
Вспомнив дружбу и любовь,
Уезжала на рассвете
В Ледовитый океан.
В это памятное утро
Мне тайга приснилась... Выстрел
Прокатился громом. Эхо
Трижды грянуло в ответ.
Листья вздрогнули. И стало
Тихо-тихо. Слышно было,
Как сквозь тесноту деревьев
Человек бежит и в руки
Птица падает к нему.
Человек имеет имя,
Пароход имеет имя,
Океан имеет имя...
Может, берег впереди?
Может, в легкой свежей дымке
За ближайшим поворотом
Встанет берег неизвестный
Над прозрачною водой?
Может, много дней томится
Он в предчувствии названья,
В ожиданьи этой встречи?..
Пусть прославлен будет всякий,
Кто идет тропою трудной
К незнакомым берегам!
...В это памятное утро
Я простился с южным солнцем,
С гаванью, куда приходят
И откуда уплывают
Корабли во все края.
Я простился с Украиной,
С первым городом матросов,
Мукомолов и поэтов,
Грузчиков, и рыбоводов,
И котельщиков глухих.
Я бежал по переулкам
И по улицам веселым,
Мимо праздничных, нарядных
Провожающих акаций,
Мимо дач, садов, киосков,
Мимо грузчиков портовых,
Мимо бравых моряков...
Я вбежал по трапу. Тотчас
Загудела гавань. Третий
В небо вырвался гудок.
И, гремя водой и ветром,
В путь отчалил теплоход.
Я простился с южным солнцем,
С городом, где я родился,
Чтоб уехать Черным морем
В неизвестный долгий путь,
Чтоб в конце концов пробиться
Сквозь тревоги и сомненья,
Сквозь арктические вьюги
К берегам любви и дружбы,
В Ледовитый океан!
1940
Адмиральская
Николаев и весна.
Снова я на Адмиральской.
Мне из края в край видна
В тополях и в дымке майской
Адмиральская. Она
Ветерок речной вдохнула,
Окна в зелень распахнула
И от Клуба моряков
Протянула вдоль Ингула
Свет незримых маяков.
Я люблю помедлить тут,
У ограды интерната.
Абрикосы цветут,
Поливают сад ребята.
Вся прямая как струна,
Мимо школы музыкальной
Льется улица. Она
Кроною пирамидальной
Выше звезд вознесена.
Кран несет под небосвод
Груз, как будто невесомый,
И на улице знакомой
Незнакомый дом растет.
За кварталом – квартал,
Здесь я дни коротал,
В адмиралы играл...
Я по этой Адмиральской
В пионерский клуб шагал!
Мимо сквера на завод
И на Ленинскую площадь
Адмиральская зовет,
Красным знаменем полощет,
И ведет, ведет меня,
Как вела бойцов когда-то...
Пламя Вечного огня
Осеняет сон солдата.
Душу я сюда принес,
Я иду по этой майской,
По земле цветущей, райской.
Впереди идет матрос.
Не спеша. По Адмиральской.
1965
Тоне
Белей неначатой страницы,
Белее майских облаков,
Белее пенистой границы
Вдоль черноморских берегов,
Белее чайки острокрылой,
Белей акации в снегу,
Белей платка девчонки милой,
Оставшейся на берегу,
Белее паруса морского,
Белее солнечного дня,
Белее воина седого
И, поседевшего, меня,
Белее свежего сугроба,
Белее лилии в саду,
Белее мрамора над гробом,
Белее лебедя в пруду,
Белее невской белой ночи,
Белее северного мха,
Еще добавлю, между прочим,
Белее белого стиха –
Цветущая в ладонях лета,
Пронизывающая день,
Вся из добра, любви и света,
Вот эта белая сирень!
1965
На рынке
На рынке – вроде как на ринге:
Здесь наступают на тебя
Бидоны, бочки, банки, кринки,
Корзинки,
В тыщу труб трубя.
Подстерегают слева,
Справа,
Идут упрямо за тобой
Арбузы пестрою оравой
И дыни желтою гурьбой.
И персики с улыбкой сладкой,
И с поволокой виноград,
Глядящий на тебя украдкой, –
Мол, я ни в чем не виноват.
На рынке, как на ринге,
Кроме
Того, что здесь без правил бьют
И запрещенные приемы
За правильные выдают.
В тебя направлены крутые
Антоновские кулаки,
И за тобой следят седые
Упрямолобые бычки.
И брынза нагло и открыто
В тебя нацеливает взор,
И подступает пирамида
Из краснощеких помидор.
На рынке, вроде как на ринге:
Здесь каждый листик неспроста,
С тобой в жестоком поединке
Вся вкуснота,
Вся красота.
Идут в атаку ароматы,
Дары земли,
Дары небес,
Неисчислимые армады
Идут поштучно и на вес.
И делается вдруг обидно,
Что люди здесь безбожно врут,
И ухмыляются бесстыдно,
И все на свете продают.
1965
Лошадь и поэт
К домику, где жил Тычина,
Академик и поэт,
Лошадь – белая кручина –
Протоптала свежий след.
Словно снежная пороша
Над безмолвием травы,
Конь по имени Сережа
Возникал из синевы.
Лошадь масти белопенной,
А в глазах – такая ночь,
Что хотелось непременно
Бедной лошади помочь.
В том хозяйстве, где Тычина
Летний отпуск проводил,
Соблюдалась дисциплина
Без кнута и без удил.
Конь трудился безотказно,
Стаж работы был немал,
Жизни легкой,
Жизни праздной
Этот конь не понимал.
Полный помыслов хороших,
Лошадиных скрытых сил,
Он тащил любые ноши,
И пахал, и боронил.
Только жребием жестоким
Он томился средь машин,
Конь был очень одиноким,
Потому что был один.
Ежедневно утром рано
Белый конь сквозь тишину
По траве лесной поляной
Шел к открытому окну.
И в окно просунув морду,
Ткнувшись в теплую ладонь,
Дескать, видишь, я не гордый,
Говорил поэту конь.
А поэт, погладив холку,
Завтрак поровну делил.
И потом стоял подолгу,
Да и конь не уходил.
Их беседы не нарушу,
У меня свои дела.
Человеческую душу,
Видно, лошадь поняла.
Уходила вновь по следу,
Помня теплую ладонь...
Нет, не каждому поэту
Может так открыться конь!
Лето бредило туманом,
Лето новое пришло.
Я приехал утром рано
В то ирпеньское село.
К домику, где жил Тычина,
Академик и поэт,
Ходит лошадь-сиротина,
А его все нет и нет.
1967
Эдуарду Багрицкому
На Базарной улице в Одессе,
Где стволы акаций в два ряда,
Ты узнал, что мир обширный – тесен,
В Черном море – светлая вода.
Детство пахло пирогом горячим,
Жареной и свежей камбалой.
Пел про море бандурист незрячий,
В такт качал белесой головой.
От воды и солнца темнокожий,
Молодой от песен и любви,
Сердцем на него ты был похожий
И наклоном светлой головы.
Я таким тебя сегодня вижу,
И в блиндажной тесноте ночной
Голос твой все ближе, ближе, ближе –
Вот и сам ты вырос предо мной.
Не могло мне в эту ночь казаться –
Видел я: у каменных оград,
На обугленных сучках акаций
Рыбаки одесские висят.
Череп разрубил осколок минный,
Хлынула горячая струя...
Это смерть единственного сына,
Это кровь последняя твоя.
Сжата грудь железными тисками,
Тяжело тебе дышать в ночи.
Бьет волна крутая в круглый камень,
Звезды над тобою горячи.
Ты идешь в бессмертное сраженье
Под заветным заревом знамен,
Осененный светом вдохновенья,
Черноморским ветром окрылен.
К морю! К морю! Улицею песен
Ты проходишь в праздничной толпе.
Здесь твой берег. Здесь твоя Одесса,
Здесь поставят памятник тебе.
1944
Такое чувство
Мальчишкой в самом раннем детстве,
Гордясь подвалом, где я рос,
Тому, кто жил со мной в соседстве,
«Мой дом», – однажды произнес.
Вы не сочтите за причуду,
Но, помня милые края,
Я говорил всегда и всюду:
«Мой двор» и «улица моя».
А годы шли вдали от дома,
И вот сквозь дымку сладких слез,
Взглянув на город незнакомый,
«Моя Москва», – я произнес.
Где б ни случалось жить, везде я
Среди волнений и тревог,
Ничем, по сути, не владея,
Такое чувство уберег.
Насквозь вселенную проехав,
Объяв все земли и моря,
Я говорю, и вторит эхо:
«Россия – родина моя».
1992
Я молиться хочу
Окружают меня мертвецы –
От столицы и до захолустья,
Все начала и все концы,
Все истоки до самого устья.
Я стою в молчаливом кольце
Всех, с кем жил. Я хочу помолиться.
В каждом облике, в каждом лице
Проступают знакомые лица.
Тесен мир, как тюрьма. И меня
Небеса награждают отмычкой.
Имена. Имена. Имена.
Это мертвые на перекличке.
Я молиться хочу, но тиски
Грудь сжимают мою. Я немею,
И поднять не могу руки,
И молитву сказать не умею.
1992
Диалог с жизнью
– Ах, жизнь, ты бываешь, не скрою,
Бедою непоправимой,
И матерью, и сестрою,
И мачехой, и любимой.
Ах, жизнь, ты и чудо и диво,
Ты правишь и властно и грозно,
Караешь несправедливо
И милуешь очень поздно.
– Ты прав: я несносной бываю.
Ты прав: я бываю разной,
Но ты, поэт, уповаю,
Меня назовешь прекрасной.
1991
Последнее желание
Он замер у самого края
Земли, где кончаются сны,
Он мир покидал, понимая,
Что дни и часы сочтены.
Он тихо промолвил:
– Учтите
Одно из желаний моих:
Над гробом моим помолчите,
Не надобно слов никаких.
Мы молча стояли.
Ни слова.
И жуткой была тишина,
Когда у постели сосновой
Прощались мы с ним. И жена
Заплакала горько, и дочка
Беззвучно рыдала в тиши,
И я положил два цветочка,
Как будто вокруг ни души.
И вдруг из безмолвной печали
Послышалось мне одному:
– При жизни тех слов не сказали,
Над гробом они ни к чему.
1993
Вечный диалог
Все, что окружает нас с тобою,
Обретает свой язык и ритм.
Ты прислушайся в ночи к прибою,
Это он с тобою говорит.
Темный лес и роща золотая,
Небо в предзакатной глубине,
Ветерок, дорожку заметая,
Говорят с тобой наедине.
Вникни в эхо, подружись с простором,
Ледоход послушай на реке.
В тишине с тобою черный ворон
Говорит на внятном языке.
Все вокруг волнуется и дышит,
Не сгорая, все вокруг горит,
И совсем не зря поэт услышал,
Как звезда с звездою говорит.
1987
Первый соловей
В майскую кипень, в душистую тьму,
В душу поэта
Первый запел соловей, и ему
Внемлет планета.
Как изощряется, как он поет,
Множатся трели,
Звонче всех птиц, завершивших полет,
Тоньше свирели.
Как он старается, знает одна
Ветка сирени.
Сам он не виден, но песня слышна
В мире весеннем.
Вслед соловью над землею над всей
Льются напевы.
Мало ему, что он соловей, –
Он еще первый.
1991
Дружески
Хороший поэт Окуджава.
И песни его хороши,
Легко с ним рифмуется слава…
Что надо? Сиди и пиши!
Для горестей нету причины,
И нет для тревог ничего.
Его обожают мужчины,
И женщины любят его.
Открыты пред ним все дороги
В отчизне своей и вокруг…
Он друг и товарищ для многих,
И мне он товарищ и друг.
Есть хлеб, есть и пиво, и сало,
Друзья, и любовь, и почет.
Так нет – ему этого мало,
Еще он, представьте, поет.
1990
Диалог с Вольтером
Я спросил сегодня у Вольтера:
– Существует ли на свете Бог?
Он сказал:
– Была бы только вера,
Каждый Бога сотворить бы мог.
А потом помедлил он немного,
Я тут не прибавил ничего:
– Надо бы придумать людям Бога,
Если б даже не было его.
Полночь. Тишина.
Часы пробили.
Что еще сказать осталось мне:
– Люди, в общем, так и поступили…
И Вольтер доволен был вполне.
1992
Напоследок
Во мне всегда звучали
Вблизи и вдалеке
Еврейские печали
На русском языке.
Я посвятил России
Без меры и сполна
Все помыслы, все силы –
До капельки, до дна.
Ее святая милость
В предельной глубине
Со мной соединилась,
Откликнулась во мне.
Позвольте напоследок
Сказать в конце пути:
Прости меня, мой предок,
Потомок мой, прости!
1991
Последняя цена
Памяти Юлии Друниной
Ах, все бывает в этом мире злом,
Где явь, как сон, а дни, как ночи.
Судьба таким завязана узлом –
Ни развязать, ни разрубить нет мочи.
Прозрение приходит не из книг,
Из бытия, где жизнь и смерть в соседстве,
И о добре нам вспомнится на миг,
Как о далеком невозвратном детстве.
И никого, и даже нет друзей,
Отца и мать и то не вспоминаем,
И жизнь по воле собственной своей
На славу на посмертную меняем.
Жестокая последняя цена,
Разверзнута немыслимая бездна,
И жизни нет, окончилась она,
И миру остается только песня.
Аплодисменты
Николаю Сергеевичу Плотникову
Я люблю театр, в котором
Начинают жить легенды.
Ах как трудно быть актером:
Каждый день аплодисменты!
Каждый день, нет, каждый вечер,
Пережив едва разлуку,
Вновь идти на эту встречу,
Вновь идти на эту муку.
Раздвигаются просторы,
И другие чайки реют,
И любимые актеры,
К сожалению, стареют.
Театральные афиши,
Театральные пороги,
За которыми все тише
И все далее тревоги!
Ах как трудно быть актером,
Умирать и жить искусно,
Забываться, если горе,
Улыбаться, если грустно.
Жизнь свою с чужой судьбою
Породнить и соизмерить,
Быть всегда самим собою,
Моцарт ты или Сальери.
Надо вровень стать с удачей,
С ней свыкаясь понемногу.
В дни, когда вокруг судачат,
Проложить свою дорогу.
Власть над славою имея,
Не сдаваться ей на милость,
Чтоб от сладостного хмеля
Голова не закружилась.
Чтобы не были укором
Адреса, венки и ленты.
Ах как трудно быть актером:
Каждый день аплодисменты!
1969
* * *
В той самой мастерской
 Я его запомнил идущим с завода, где он работал судовым клепальщиком. Он шел, выставив правое плечо, бормоча стихи, не замечая вокруг ничего. Мы, мальчишки, интересующиеся литературой, сами сочиняющие первые стихи, знали, что это идет поэт Рувим Моран.
Я его запомнил идущим с завода, где он работал судовым клепальщиком. Он шел, выставив правое плечо, бормоча стихи, не замечая вокруг ничего. Мы, мальчишки, интересующиеся литературой, сами сочиняющие первые стихи, знали, что это идет поэт Рувим Моран.
Рувим Моран
Город Николаев. 1929 год. Мне шестнадцать. Я уже работаю на том же судостроительном заводе, а Морану – двадцать лет. У нас в Николаеве он признанный поэт. Его стихи появляются то в местном литературном журнале «Стапель», то в нашей городской газете «Красный Николаев». Начало одного стихотворения осталось в памяти. В нем завод, док, верфи, корабль, сходящий со стапелей на воду Южного Буга:
Еще с утра старался серый Буг
Похожим стать на море. Но до волн
Не дорастала зыбь. Ее судьбу
Решали сваи...
Таких строк я сейчас не нашел в стихах Морана, но они остались со мной навсегда. Мне это кажется одним из самых удивительных свойств поэзии. Приходят и уходят десятилетия, приходят и уходят поэты, а строчки, некогда поразившие нас, остаются.
Об этом достоинстве истинной поэзии я думал, когда читал рукопись книги «В поздний час», единственной книги собственных стихотворений Рувима Морана, которая осталась на письменном столе после смерти автора осенью 1986 года. Его знали как переводчика, а своя книга писалась всю жизнь.
Родился Рувим Давидович Моран 8 сентября 1908 года в поселке Березовка, неподалеку от Одессы. Приехав в Одессу в 1919 году, окончил трудовую школу, учился в вечернем рабочем университете, одновременно работал чернорабочим на складе. Еще школьником начал писать стихи, а попав в Одессу тех лет, где кипела литературная жизнь, оказался в центре молодой поэзии. Позже Арсений Тарковский вспоминал: «Моран был „из окружения Багрицкого“».
В 1924 году в одесском сборнике «Потоки Октября» были напечатаны два стихотворения юного поэта. В 1928 году Моран появился в Николаеве и сразу начал работать в чугунолитейном цехе судостроительного завода, который сейчас называется Черноморским заводом, а тогда носил имя французского революционера Андре Марти.
В ту пору была весьма популярна песенка: «Город Николаев, французский завод, там живет парнишка, двадцать первый год». Можно подумать, что это о Моране.
Помню литературные страницы нашей заводской многотиражки со стихотворениями, подписанными «Р. Моран». Необычное это имя под стихами, где было и море, и Буг, и наш док, быстро стало известным на заводе и утвердилось среди поэтов города. Тем более, что стихи Морана, к нашему удивлению, стали печататься не только в Николаеве, Одессе и тогдашней столице Украины – Харькове, но и в Москве: в журналах «Молодая гвардия», «Красная нива», в любимой нашей газете «Комсомольская правда».
Всю свою жизнь, в каких бы условиях он ни находился, в какие бы края ни забрасывали судьба, журналистская работа, Моран писал стихи, хотя они никогда не были источником его существования. Вернувшись из лагеря, куда был заключен в ноябре 1948 года по ложному обвинению, он посвятил себя переводческому творчеству.
Это была серьезная работа истинного поэта. Он начал с переводов татарской поэзии. Поехал в республику, изучил татарский язык, познакомился с татарскими поэтами, стал их другом. Знание татарского помогало ему находить пути сближения с другими поэтами, пишущими на тюркских языках. Когда его принимали как переводчика в Союз писателей, Вера Звягинцева удивленно воскликнула: «Да он знает татарский язык!».
Его рекомендовали в члены Союза советских писателей С. Шервинский, С. Кирсанов, С. Липкин, а стихи рецензировали В. Звягинцева, Н. Любимов и Л. Пеньковский – первоклассные мастера. Арсений Тарковский в своем выступлении на приеме сказывал о Моране: «...как переводчик представляет собой исключительный пример: при ярко выраженном индивидуальном переводческом стиле он пишет резко, у него резкая, контрастная манера письма при классической точности выражения... Он находится в первом ряду советской школы художественного перевода».
И действительно, Моран виртуозно справлялся с труднейшими формами восточного стихосложения, с газялями, рубаи, мухаммасами, где тридцать и сорок строк идут на одну рифму. Он переводил чешских классиков и современных румынских поэтов, испанские рыцарские романсы. Зная английский, он переводил и Р. Бернса, и Лонгфелло.
Он был, как правило, близок к оригиналу, но и в переводе оставался поэтом, сохраняя не только мысль, передавая интонацию переводимого поэта. Вот самое маленькое стихотворение «Время и алмаз» татарского поэта Габдельджабара Кандалыя, жившего в прошлом веке:
Нужно только время, чтоб алмаз добыть,
А попробуй время за алмаз купить!
Его переводы печатались в сборниках, журналах, антологиях, в книгах разных поэтов. И все-таки одна книжка Рувима Морана при его жизни вышла. И вышла она в 1968 году в Казани по настоянию его татарских друзей. Назывался этот тоненький сборник «Выбор», в нем было с десяток оригинальных стихотворений и переводы татарских поэтов.
Книжка издана с уважением и любовью к автору. Небольшой томик в твердом сером строгом переплете, с фотографией поэта. Видный татарский поэт Сибгат Хаким написал предисловие, в котором Моран назван «большим другом татарской поэзии».
А жизнь его была нелегкой. Все то, что испытала наша страна, наш народ, в полной мере отразилось в его судьбе. Когда началась война, он был литературным сотрудником отдела культуры газеты «Красная звезда». С первых же дней войны попросился на фронт и стал военным корреспондентом «Красной звезды». В газете стали появляться его статьи и очерки, а тогда, в начале 1941 года, заметка, добытая на передовой, стоила иной раз жизни. В сентябре на Брянском фронте он был тяжело ранен. Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» вспоминает, как он и редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг-Вадимов навестили под Брянском Морана в полевом госпитале.
Одну из глав книги Илья Эренбург посвящает писателям и журналистам, с которыми он был близок в дни войны в газете «Красная звезда». Наряду с А. Н. Толстым, В. Гроссманом, Е. Петровым, К. Симоновым, П. Павленко, А. Сурковым, Е. Габриловичем, С. Борзенко он вспоминает и Морана: «Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет свои, а тогда частенько писал передовицы – Вадимов шагал, чуть прихрамывая, по кабинету и объяснял, что именно Моран должен написать.
Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в „Известия”, его арестовали как „космополита“, и я снова его увидел только в 1955 году». Так в какие-нибудь десять строк Илья Эренбург в своем телеграфном стиле вобрал любовь Морана к поэзии, помянул стихи и переводы, войну, две газеты, в коих тот работал, арест и возвращение Морана из лагеря, нарисовал редактора «Красной звезды» и даже успел передать главные черты характера, назвав Морана «милым и чрезвычайно скромным».
В самые крутые времена Моран оставался настоящим человеком, верным товарищем, любил жизнь и поэзию. Может, поэзия и спасла его душу. В лагерных немыслимых, нечеловеческих условиях он ухитрился сочинять стихи, научился хранить в памяти свои выстраданные строчки:
Говорят, что судьба близорука
И нет-нет перепутает нить.
Трудно вымолвить слово «разлука»,
Каково же ее пережить?
Поэзия оставалась для него прикосновением к волшебству. Он горько признавался: «Я истину установил: стихи во мне все медленнее вызревают, они уже мне жил не разрывают, растут, как под снегами в тундре мхи». Но это как раз тот случай, не частый, но единственно верный, когда поэт, если он поэт, не писать не может. Он так и говорит: «Зимой не может завязь завязаться, уже мне сны не снятся наяву, но, боже мой, как трудно отказаться от чувства сопричастья волшебству!». А мне кажется, это он о себе. Вот и прямо о себе, в стихотворении, датированном 1949 годом: «Возьму я плотницкий топор, как бритва, острый, и все, чем жил я до сих пор, забуду просто!». Или: «Я не строю себе пьедестала, и венков я из лавра не вью, хоть поляна бы мне подостлала травяную попону свою». И позже, вспоминая это жестокое время, он с предельной искренностью говорил, мол, не подумайте, что я «не прельщаюсь соблазнами», что для меня «слава – труха» и «душа к ней глуха»...
Но как вспомню свой тягостный гуж:
Салехардскую миску с баландою,
Волгодонскую вышку неладную,
Заполярную глушь,
Да заволжскую сушь,
Да могилы в снегах и песках –
Не хочу ни смиреньем, ни ропотом
Блага брать – пропади они пропадом!
Возле слез, после плах,
Блага – прах, слава – прах...
Но даже там, мечтая, представляя себе поезд, везущий его домой, он все-таки думал: «И, может быть, пройдя сквозь новый круг трудов суровых или новых мук, вернувшись измытаренным и старым, я с удивленьем обнаружу вдруг, что я и эти годы жил недаром».
Здесь нельзя поколебать ни единого слова, нельзя заменить его другим словом, и главное, такие строки невозможно забыть. Моран добивается той завидной точности, которая не теряет дружбы с поэзией. Сам он так относится к своей поэзии: «На бессрочной этой каторге поплачусь я головой».
И поплатился.
Родился он осенью и ушел из жизни осенью, прожив семьдесят восемь лет. Рукопись единственной книги, которую он все собирался отнести в издательство, отнесли мы, его друзья. И вскоре в издательстве «Советский писатель» появилась рецензия на рукопись «В поздний час». Ее написал Константин Ваншенкин. Давно я не читал таких щедрых слов о поэтических сборниках. Ваншенкин назвал книгу лирики «В поздний час» настоящим событием, явлением в нашей поэзии. И добавил: «Ведь появление, в данном случае, к сожалению, запоздалое, каждого по-настоящему талантливого художника, мастера – и есть событие».
И все же я не могу не сказать, что при всей неслыханной в наши дни скромности и строгости к каждой своей строке Рувим Моран знал себе цену. Не об этом ли свидетельствует стихотворение, написанное незадолго до смерти:
Я‑то знаю, я‑то знаю.
Что я стою, что могу,
Доживать бы – хата с краю –
И не гнуть себя в дугу.
Говорю, а мне не верят:
Мол, кокетничаешь, брат,
И своею мерой мерят,
И гордынею корят.
А гордыни нет в помине,
Только беспощадный суд,
Как уложат в домовине,
Подытожат – все поймут.
...Не так давно большая группа писателей побывала в Николаеве, где проводились Дни советской литературы. Среди московских поэтов был и Рувим Моран. Признаться, стоило больших трудов уговорить его туда поехать. На все мои доводы он отвечал: «Меня никто не знает, никто меня в Николаеве не помнит, я никому не нужен...». И лишь в ответ на «это же Николаев, там твой родной завод, там все улицы тебя знают, там еще есть твои старые друзья» он махнул рукой: «Ладно, поедем...».
В Николаеве его прекрасно принимали, особенно в педагогическом институте и на Черноморском заводе, где мы с ним работали. Сначала мы походили по заводу, который похож на город, со своими улицами и переулками, деревьями, зелеными уголками, дорожками и тропинками, ведущими в огромные цеха, доки и мастерские. Потом мы побывали на бугском берегу, полюбовались мощным кораблем, готовым в ближайшие дни покинуть колыбель – заводские стапеля. После этого я пошел выступать в свой котельный цех, а Моран – в свой чугунолитейный.
Мы еще не уехали из Николаева, как в местной газете «Южная правда», в той газете, что когда-то называлась «Красный Николаев», появились новые стихи Морана и среди них – стихотворение, навеянное встречей с чугунолитейным цехом:
Попробуй трезвой мерой
Минувшее измерь:
Что было в нем химерой,
Что истинною верой,
И почему теперь
Как будто даже слаще
Все тот же синь-дымок,
Все тот же чад, летящий
От залитых опок.
А через несколько лет я написал стихотворение: «В поздний час» и посвятил его светлой памяти Рувима Морана:
Зимний вечер бесконечный
Разделяет нас.
Небосвод над нами млечный,
Как иконостас.
Кто-то станет любоваться
Этой красотой.
Кто-то станет целоваться
Под святыней той.
Кто-то богу помолиться
Вздумает за нас,
А кому-то загрустится
В этот поздний час.
Обидно, что Моран не увидит своей книги, точно названной «В поздний час». Но поэты умирают, а стихи живут, хранят их души, их имена, их жизнь. Хочется завершить наш разговор о поэте его стихотворением «Призвание»:
Я аромат слесарной мастерской –
Дух масла и нагретого металла –
Иной раз помню с ясностью такой,
Как будто перед табельной доской
Стою – и начинаю все сначала.
Ах, кто под старость не знаком с тоской
О том, что век не так, как надо, прожит.
И кто сказать с уверенностью может,
Что трудится в той самой мастерской,
Куда душа влекла?..
Моран трудился в той самой мастерской, имя которой – Поэзия.
* * *
Твардовский
 Cейчас все пишут воспоминания о Твардовском. То, что пишут именно о нем, неудивительно. Он – сегодняшний классик. Еще при жизни Твардовский так воспринимался своими современниками. Он это безусловно заслужил прекрасными стихами и поэмами, воистину всенародным «Василием Теркиным», в котором любая строка – его строка. Твардовского всегда можно узнать, даже не в лучших его стихах. И закономерно, что в один поэтический ряд после Блока, Маяковского, Есенина встало его имя.
Cейчас все пишут воспоминания о Твардовском. То, что пишут именно о нем, неудивительно. Он – сегодняшний классик. Еще при жизни Твардовский так воспринимался своими современниками. Он это безусловно заслужил прекрасными стихами и поэмами, воистину всенародным «Василием Теркиным», в котором любая строка – его строка. Твардовского всегда можно узнать, даже не в лучших его стихах. И закономерно, что в один поэтический ряд после Блока, Маяковского, Есенина встало его имя.
Александр Твардовский
Еще недавно Твардовский в Большом театре, на торжественном заседании, посвященном 125-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина, от своего имени и – по праву – от имени всей поэзии произнес блестящую речь о первом поэте России. В этом «Слове о Пушкине» есть признание: «А главное – в какой бы связи ты ни касался Пушкина, испытываешь такое волнение, как будто выступаешь в его присутствии».
Признаюсь, именно такое же волнение испытываешь, когда пишешь об Александре Твардовском, великом поэте нашего времени, поэте, чье имя получило полное признание в народе, признание от читателя, едва овладевшего основами русского языка, до такого тонкого ценителя литературы, как Иван Бунин.
Любопытно, что воспоминания о нем пишут и те, кто не пользовался ни его дружбой, ни даже его вниманием. Более того, среди пишущих о нем есть литераторы, чуждые ему по сути. Он их никогда не печатал, будучи редактором журнала «Новый мир», нигде никогда не упоминал и даже открыто высказывался неодобрительно об их деятельности.
Правда, у Твардовского как у редактора была такая слабость: он мог напечатать в журнале и ничем не примечательное стихотворение, если оно было ему близким по духу. Тут, как говорил сам Твардовский, ни убавить ни прибавить. Помню, мне сказала Софья Каганова, заведовавшая отделом поэзии в «Новом мире», что Александру Трифоновичу понравилось мое стихотворение «Друг нам дороже брата иногда». Вот это стихотворение:
Друг нам дороже брата иногда.
Да что там иногда?..
Дороже брата.
Об этом хорошо спросить солдата,
Который брал когда-то города.
Наверное, нетрудно догадаться,
Что скажет вам в ответ такой солдат.
Брат может другом вдруг не оказаться,
Зато уж друг – он непременно брат.
А нас учили близких всех любить,
Ну как тут быть?
А надо быть солдатом,
Брат настоящим другом должен быть,
Когда он хочет оставаться братом.
В любви и в равнодушии вольны
Мы перед совестью и небесами.
Все дело в том, что братья нам даны,
Друзей себе мы выбираем сами.
Конечно, я очень обрадовался. Мое стихотворение понравилось Твардовскому! Я жил ожиданием, надеждой, что увижу свое детище в «Новом мире». У меня есть стихотворение «Надежда», в нем такие строки:
Без надежды – не жду успеха,
Ни рассвета и ни весны,
Как я мог на войну уехать!
Как я мог вернуться с войны!..
Так живу в привычной надежде,
Что тревога пройдет к утру,
Так живу, надеясь, как прежде,
Что не скоро еще умру.
Что наука сердце заменит
И простит ему все грехи,
Что Твардовский меня заметит
И похвалит мои стихи.
И вот наконец похвалил. А спустя некоторое время та же Софья Каганова вернула мои стихи, и над стихотворением «Друг нам дороже брата иногда» карандашом было написано рукой Твардовского: «Стихотворение больше годится для книги».
Стихотворение поначалу появилось в газете – в «Литературной газете», затем и в моих книгах, перепечатывалось во многих изданиях, переведено на другие языки, вошло в антологию нашей поэзии.
Мне вдруг вспомнилась одна шутливая запись Эмиля Кроткого. Смысл ее такой: поэт был редактором и в двух случаях не печатал чужих стихов – когда они были очень плохие и когда они были очень хорошие.
О Твардовском этого сказать нельзя. Он печатал в журнале стихи близкие, я бы даже сказал родственные его стихам, его поэтической манере. Случалось, правда, очень редко, когда он преодолевал свою натуру. Как-то Михаил Луконин в споре с Твардовским о стихотворной форме и поэтическом стиле напомнил ему, как он за одну ночь прочитал луконинскую поэму «Дорога к миру» и решил дать ее в ближайший номер «Нового мира». Поэма была напечатана, и Твардовский сказал автору поэмы: «Ей бы цены не было, если бы она была написана человеческим стихом».
Что ж, думается, особенно укорять за такое отношение к чужому творчеству Твардовского не стоит. Тут сказывается и его позиция в литературе, и собственный поэтический характер, и особый вкус, и, наконец, право редактора печатать или не печатать по любым соображениям того или иного поэта.
Твардовский был большим авторитетом в поэзии, незаурядной личностью в литературе, и подобное своеволие ему прощалось. Тем более, что при всем этом он высоко ценил или отличал таких разных поэтов, своих современников, как Багрицкий, Ахматова, Маршак, Цветаева, Исаковский, Светлов, Алигер, Смеляков, Кулешов, Кулиев, Шефнер, Гамзатов, Рыленков, Кугультинов, Ваншенкин..
Многим из них он не раз и с видимым удовольствием предоставлял страницы редактируемого им журнала.
А неизменно трогательное, ничем не омраченное отношение к Исаковскому, к его поэзии, дружба, длившаяся от первых незрелых стихов, которые Твардовский принес на суд Михаилу Васильевичу, до стихов, получивших всеобщее признание! Их дружба, начавшаяся в Смоленске, не потускнела в Москве.
Когда Твардовский вышел на сцену Концертного зала имени Чайковского приветствовать Михаила Васильевича по случаю его семидесятилетия, чтобы произнести свое юбилейное слово, зал встал. Александр Трифонович был моложе Исаковского на десять лет. Он как бы прощался с другом, зная, что тот весьма болен. Случилось иначе. Твардовский ушел из жизни через три года после этого вечера, на шестьдесят втором году, и Михаил Васильевич горько переживал утрату своего верного друга. До этого дня, печального для русской литературы, из уст в уста передавали: Твардовский смертельно болен. Я в это время был в далеком приморском городе, куда докатилась грустная весть, вошедшая в мое стихотворение:
Город покидают корабли,
На вершинах горных снег не тает,
Серебрятся полюсы земли...
А в Москве Твардовский умирает.
Я пишу о Твардовском не вспоминая. Если бы я вздумал писать о нем воспоминания, то начал бы с такого случая. Твардовский, видимо, любил Сандуны – знаменитые московские бани с парной и бассейном, с массажистами и пивом. Однажды – это было зимой, лет двадцать назад – он после бани вышел бодрый, сияющий, розоволицый, тщательно причесанный. Я в это время сдавал свое пальто в гардеробную. Мы поздоровались. На его лице я заметил что-то вроде удивления, дескать, человек имеет дома ванную, а ходит в Сандуны. Так как это относилось в той же мере и к нему – он смолчал, но, принимая пальто, сказал не то гардеробщику, не то мне: «Все грехи свои смыл» – и пошел к выходу.
Я спросил у гардеробщика:
– Знаете ли Вы, кто это?
Гардеробщик, провожая подобревшим взглядом высокого и статного Твардовского, весело ответил:
– Как же, как же, Василий Теркин!..
А я про себя повторил две строчки Александра Твардовского, обращенные к его герою – Василию Теркину:
Я забыть того не вправе.
Чем твоей обязан славе...
Еще я мог бы вспомнить несколько наших мимолетных встреч в редакции «Нового мира», но существенного впечатления от них у меня не сохранилось, если не считать последней встречи, незадолго до его ухода с поста редактора журнала.
Я вышел из крохотной комнатки отдела поэзии, где оставил новую поэму, и столкнулся с Александром Трифоновичем:
– Чем Вы нас порадовали?
– Принес поэму ...
Он пообещал «непременно» прочесть поэму, и мы простились.
Твардовский тогда произвел на меня тягостное впечатление. Он заметно постарел, показался отяжелевшим и рыхлым. Знакомое округлое мальчишечье лицо осунулось, резко повзрослело, а голубые с озорной ехидцей глаза погасли, выцвели и рассеянно глядели поверх моей головы.
Мы уже знали, что с благословения высших партийных инстанций и руководителей Союза писателей из редколлегии «Нового мира» изгоняют его единомышленников и вводят, несмотря на протесты Твардовского, людей не только ему чуждых, но и ненавидящих его. Твардовскому не могли простить
ни воспоминаний Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», изувеченных цензурой, ни открытого им Александра Солженицына, чьи произведения появились в журнале «Новый мир».
Ему не могли простить противостояние всему, что он считал обманом и лицемерием.
Было ясно, что таким образом хотят вынудить Твардовского покинуть «Новый мир». Неужели кучка ничтожных политиканов ради низменных целей добьется своего?! С болью я смотрел на Твардовского. Предо мной стоял утомленный и грустный человек, а мне он помнился сильным, уверенным, спокойным. Я понимал, ему сейчас не до меня, не до моей поэмы.
Ушел я из редакции подавленный и встревоженный, и еще долго перед моими глазами был Твардовский, которого я видел в последний раз. Ночью мне снился Твардовский. Он вошел в редакцию «Нового мира», в передней, будто у себя дома, снял солдатскую шинель и повесил ее на крючок вешалки, потом вынул из нагрудного кармана железную расческу, подул на нее, расчесал волосы на прямой пробор и сказал сбежавшимся сотрудникам журнала: «Ну, здравствуйте!». Его начали тут же фотографировать, он удивился и спросил: «Братцы, что случилось, почему вы так спешно решили меня увековечить?». Кто-то из сотрудников сказал: «Мы хотим здесь повесить вашу фотографию»...
Что еще? Еще есть у меня письмо Александра Трифоновича. Мне кажется, оно представляет определенный интерес, и не столько для адресата, сколько для понимания Твардовского-редактора, даже Твардовского-поэта, с его твердым и принципиальным отношением к сегодняшней поэзии.
«Дорогой Марк Самойлович!
Вы предполагаете, что стихи Ваши «Памятники» и «Ах как все спешат оправдаться» не могут быть напечатаны по идейно-политическим соображениям. Я в них не нахожу ничего в этом смысле «криминального». Но дело в том, что стихи сами по себе, простите меня, так себе. Все, что в них говорится, уже было сказано, и покрепче. И уж заодно отмечу, хоть я не придаю решающего значения рифме (рифма хороша, которая не фиксируется как таковая), но жаль, что Вы так усиленно налегаете на «евтушенковскую», нарочито непритязательную рифмовку (ответственную – естественную, сохранить – похоронить, постаменты – аплодисменты и т. п.). Во‑первых, нарочитая непритязательность уже не есть непритязательность, – такие рифмы невольно фиксируются пусть не как изысканные, а как слишком уж обедняющие словарь стиха. Во‑вторых, и сам Евтушенко, мне кажется, уже отходит от этой мнимой невзыскательности в рифме, – он уже учуял, что это перестало быть «новацией». И, в‑третьих, плохая рифмовка обнаруживается при отсутствии яркого, резкого, значительного содержания, мысли. Впрочем, обучать Вас уму-разуму Вы меня не просили и, как говорится, ученого учить – только портить.
Желаю Вам всего доброго.
Будет новое – присылайте.
А. Твардовский».
Как видите, лично для меня в письме Твардовского нет ничего лестного, даже приятного, как нет ничего хорошего для меня и в том, что я вспомнил в начале разговора об Александре Трифоновиче.Но разве необходимо вспоминать только то, что льстит нам, возвеличивает нас, когда мы воскрешаем в памяти то или иное событие в нашей жизни, того или иного человека, встретившегося нам на пути, тем более, что речь идет о личности редкой в наше время, речь идет о поэте такого масштаба, как Твардовский!
Не сразу (меня не было в Москве) я ответил Твардовскому. Его письмо датировано 4 ноября 1963 года, а я ему ответил 19 декабря того же года. Я писал, что главная мысль одного стихотворения: «Памятники при жизни ставить противоестественно, это все равно что заживо человека похоронить», – мне не встречалась у других поэтов. Да и основная мысль второго стихотворения: «Ах как все спешат оправдаться перед совестью, перед собой» – не думаю, чтоб была так уж избита в нашей поэзии.Вторую часть ответа, целиком касающегося рифм, мне хочется привести полностью:«Все остальное в Вашем письме посвящено рифме. У нас с Вами отношение к рифме одинаковое. В этом Вы убедитесь, прочтя стихотворение «Ах эти рифмы, эти рифмы» на 95-й странице книги «Здравствуй», которую я Вам посылаю. Конечно, тут не без хитрости: уж больно хочется, чтобы Вы заглянули в мою новую книгу.
И еще. Мне кажется, такие рифмы, как «постаменты – аплодисменты», не стоит называть «евтушенковскими». Евтушенко рифмует «куплена – крупные, доме – дольки, солнце – сосны, армию – атомные, работа – походы»... Я открыл его книгу «Яблоко» и взял эти рифмы наугад. Но надо признать, что Евтушенко все-таки обогатил рифму. К сожалению, он мало принципиален и не строг в своей работе, поэтому возникают рифмы типа «работа – походы».Что касается меня, то я забываю про всякие рифмы, когда читаю: «Смерть – она всегда в запасе, жизнь – она всегда в обрез». А раз она всегда в обрез, то и писем длинных не надо бы писать. На сем и кончаю».
Обыкновенно авторы воспоминаний пишут так, что отсвет знаменитого, или известного, или заслуженного, или просто хорошего человека падает на них. Что ж, ничего в этом не вижу предосудительного. Трудно, просто невозможно вспоминать о человеке, не касаясь своих взаимоотношений с ним, не касаясь того, что тебя волновало, чем ты некогда жил, дорожил, что на всю жизнь запомнил.Но – это весьма важное «но» – на такие воспоминания надо иметь право. Вот почему мои краткие заметки о Твардовском я не называю воспоминаниями.Я на них не имею права.Под гул канонады и пулеметной трескотни за столом у лампы как голодный глотал страницы за страницами. И унес меня старик Пришвин в чудесный, дорогой моему сердцу мир, в мир человечности, творчества, спокойной природы.
* * *
Листопад
Первый, кого я увидел в редакции армейской газеты «За честь Родины», куда меня назначили корреспондентом, был Борис Песков. Это произошло зимой 1944 года, в начале января, неподалеку от Ржева, в деревне Муравьевке.
В Муравьевке располагались штаб Двадцатой армии, политотдел, редакция газеты и другие службы второго эшелона армии, возводящей укрепленный район. Позади у этой армии были бои за Вязьму, Гжатск и Ржев, а сейчас дивизии стояли под Старицей, где и проходила вторая линия обороны.Редактор газеты оказался на совещании в политотделе, и мне растолковали, как найти дом ответственного секретаря редакции. Я вошел в просторную избу и увидел стоящего у окна дюжего детину в накинутой на плечи шинели. На стук двери он обернулся.
Я увидел высокого, круглолицего, с лысиной во всю голову, а может быть, бритоголового человека в погонах капитана. Он сначала прищурил, потом округлил глаза и оглядел меня вопросительным взглядом, в котором я прочитал: «Что за птица к нам пожаловала?».
В облике капитана что-то было от охотника, от путешественника, от бывалого человека, хотя на вид ему было не более тридцати. Я решил, что это и есть ответственный секретарь, и доложил ему, кто я есть и зачем сюда прибыл. Капитан замахал руками:– Неужели я похож на ответственного секретаря?.. Я такой же корреспондент, как вы, был, как вы, в чине старшего лейтенанта, совсем недавно прицепил к трем звездочкам четвертую. – И не без удовольствия прибавил: – Капитанскую... У нас ответственный секретарь – солидный мужчина, майор, мой тезка, Борис Юдин... Я тоже пришел к нему... Знаете, начальство любит задерживаться. Пошли ко мне, живу рядом, успеете объявиться!
И мы отправились к нему. Он жил, как сообщил по дороге мой новый знакомый, в доме солдатки, женщины аккуратной, хозяйственной. «Муж у нее на войне, награжден орденом, живет она с маленькой дочкой. Девочку зовут, как мою жену, Тамарой, а хозяйку – Листопад», – продолжает капитан. Перехватив мой удивленный взгляд, Песков стал объяснять:– В первые дни знакомства мы как-то разговорились, она – о своей довоенной жизни, я – о своей... Она любит образно изъясняться. Вот она и говорит: родила я дочку поздно, в свою осеннюю пору, к сорока годам, в свой листопад... А я ей говорю: да вы еще совсем молодая, а она свое: листопад да листопад. Я так ее и называю – Листопад, тем более, что она рыжеватая... Она не обижается, по-моему, ей даже нравится новое имя!Мы вошли в избу.
У печи хлопотала невысокая женщина. Волосы ее, скорее золотистые, чем рыжие, были стянуты на затылке в узел.– Листопад, вот наш новый работник редакции, знакомьтесь! – сказал Песков.Женщина сконфуженно улыбнулась, по-доброму принимая дружеский тон своего постояльца, назвала свое имя и отчество. Ни имени, ни отчества я не запомнил, остался Листопад.Хозяйка с дочкой жили в каморке рядом с кухней. Песков занимал в избе угол, отгороженный с одной стороны шкафом, с другой – плащ-палаткой. Борис, приглашая в свой угол, называл его рабочим кабинетом.Это действительно был рабочий кабинет военного корреспондента. Нельзя было и подумать, что здесь временно остановился человек, может быть, на два дня, может, на неделю.У окошка – небольшой квадратный стол. На нем в деревянной рамке Лев Николаевич Толстой. К рамке приставлена фотография, где изображены три взрослые женщины и девочка. Песков взял в руки снимок и пояснил: «Это я сам снял свою мать, жену, сестру и дочку». Справа от Толстого возвышалась стопка книг, слева – записные книжки. Тут же – артиллерийская гильза с карандашами, чернильница-непроливайка, школьная ручка, бутылка с клеем, ножницы, охотничий нож...
Каждая вещь находи-лась на своем, строго отведенном ей месте.Вплотную к столу – кровать, над кроватью – карта с помеченной линией фронта.С карты и начался наш разговор. Песков каждый день после приема очередной сводки для газеты красными карандашами отмечал взятые нашими войсками города. Вот и сейчас он обвел красным кружком несколько населенных пунктов, «исправил» линию фронта и начал рассуждать о будущих путях-дорогах Советской Армии, вплоть до Берлина. А в ту пору со всех фронтов шли радостные вести, и Песков, рассказав о самых последних новостях, пожаловался голосом обиженного ребенка:– А мы все ждем и ждем приказа о наступлении... Уже рухнула блокада Питера, Ленинградский фронт наступает, а мы ведь совсем рядом... Наша газета пишет о строевых занятиях, о боевой подготовке, о столовых, прачечных, санпропускниках... А каково мне? Я ведаю отделом армейской жизни. Прачечные и санпропускники – вот и вся армейская жизнь!
Я ходил в атаку под Москвой, брал Волоколамск, а тут прачечные и санпропускники! Боюсь, война кончится без нас!..Борис договорился с редактором газеты Мануилом Семеновым, добрым и веселым человеком, писателем, автором охотничьих повестей и юмористических рассказов (тем самым Семеновым, который до недавнего времени был редактором журнала «Крокодил»), что я буду работать в отделе армейской жизни под его началом и буду жить в той же избе.Я отгородил и занавесил другой угол комнаты. Вместе с Борисом мы притащили из сарая хозяйки кровать и стол, набили матрац сеном. Все это мы делали под ее руководством. Она очень трогательно относилась к Борису, а так как в моем лице почувствовала его друга, то ее забота и доброта распространились и на меня.
Листопад, надо сказать, была из тех женщин, чью красоту не каждый может разглядеть и понять. Нос, чересчур курносый, придавал ее лицу заносчивость, коей она была начисто лишена, светлые брови и ресницы не оттеняли глубины ее внимательных серых глаз. Ее украшали волосы с золотистым отливом, а добрая тихая улыбка, не часто появлявшаяся на ее лице, преображала эту скромную невидную женщину, делала ее очень привлекательной, и даже красивой. У нее была отзывчивая бескорыстная душа. И Борис это увидел и почувствовал. Он умел высекать горячие искры из чужой души. Для этого надо самому обладать такой душой.
Подобный процесс всегда обоюдный.Борис заботился о маленькой Тамаре. Отдавал девочке свой офицерский дополнительный паек, сочинял для нее сказки. Он сам придумывал таинственные сюжеты, где вместо волков и медведей действовали русские богатыри, обычно против фашистов. Песковские сказки слушала с удовольствием не только Тамара, но и мы с Листопадом. Жаль, что ни Борису, ни мне не приходило в голову записывать эти сказки.Помню, Борис стал наизусть читать отрывки из Пушкина, Некрасова, Никитина, Сурикова, Кольцова, проверяя мою память, переспрашивая, кое-где уточняя строки. Потом прочитал маленький отрывок из Толстого, чей том его сопровождал с первых дней войны. Оказывается, он задумал для шестилетней Тамары создать букварь.На моих глазах обыкновенная ученическая тетрадь превращалась в букварь. Борис наклеивал картинки, вырезанные из журналов, выводил буквы и слова, рисовал птиц и деревья. При этом он высовывал язык, оттопыривал нижнюю губу, напоминал усердного ученика.
Через несколько дней, поздней ночью, заполнив последнюю страничку тетрадки, он сказал:– А знаешь, теперь, когда идет Великая Отечественная война, такие слова, как «мама», «папа», «дом», «березка», «отечество», «солдат», «мы не рабы», звучат по-иному, более глубоко, более осмысленно...Под гостеприимной крышей нашей хозяйки, под заботливым крылом Листопада мы жили дружно и безбедно, не чувствовали неудобств походной жизни. Все в доме сверкало чистотой, дышало тем домашним уютом, о котором мы давно забыли на войне. Работа в газете в ту пору заполняла до отказа наши дни и ночи. И все же мы находили время для Тамары и для Листопада, помогали по хозяйству, носили из колодца воду, пилили и рубили дрова.
Помнится, простудилась Листопад, и мы с Борисом за ней ухаживали, привели врача из санитарной части, добыли лекарство, варили обед, кормили больную и Тамару.Мы с Борисом, вместе и порознь, почти каждый день ходили в батальоны, писали заметки о героях недавних боев, о боевой подготовке, в том числе и о прачечных, и о поварах, и о работниках связи, писали о том, как бывалые солдаты передают опыт молодым, еще не обстрелянным бойцам. Песков нашел время даже для рассказа, и газета поместила его рассказ с продолжением в нескольких номерах. И мои стихи все чаще стали появляться на страницах «За честь Родины».Мы все больше и больше сближались, больше узнавали друг о друге. Позади были фронтовые дороги, тяжкие пути отступлений и трудные пути наступлений. Два с половиной года шла одна из самых страшных войн на земле. Каждый из нас не один раз мог остаться могильным холмом на любой из этих дорог!
Песков начал войну осенью 1941 года. На Истринском направлении, под Москвой, декабрьской лютой ночью он шел в атаку рядовым бойцом. Пуля убила политрука, и рядовой Песков становится политруком стрелковой роты. Он ведет своих боевых товарищей на штурм Истры и Волоколамска.Борис многое видел, многое испытал, много передумал. Разве просто было ему после боя внести такую запись в свой дневник: «Начальнику политотдела принесли узелок окровавленных партийных билетов. На поле боя собирали оружие – собрали и партийные документы. Тяжелый узелок! Развертывал его на коленях начальник политотдела, смотрел на фотографии. Страницы билетов, склеившиеся кровью, отрывались с треском. Были билеты простреленные»?!
Борис многое на свете умел и многое на свете любил. То, что он умел, умел основательно, то, что он любил, любил верно и неистово. Сын тамбовского токаря паровозоремонтного депо, он унаследовал от отца умелые руки и зоркие глаза. Борис чувствовал себя мастером и у токарного станка, и у верстака, орудуя рубанком. Когда-то он своими руками построил большую лодку-байдарку, даже металлические детали сам выточил. И на этой лодке совершал длительные путешествия, по нескольку дней не возвращался домой.
Он любил природу. Был охотником и путешественником, спал у костра, разожженного им самим, бросался в осеннюю воду за дичью, им подстреленной, прошагал со старым отцовским ружьем не один километр. Он писал охотничьи рассказы. В 1933 году, когда ему было двадцать четыре года, в Воронеже вышла его первая книга рассказов. А начал он печататься за два года до этого, будучи студентом Воронежского университета. И на первый гонорар молодой писатель купил новое охотничье ружье.Своим литературным богом Борис Песков считал Льва Толстого. Он мог часами восхищаться Толстым, цитировать целые страницы. Он не расставался с однотомником Льва Николаевича и на войне. Фотографию Толстого, украшавшую его воронежский кабинет, он взял с собой на фронт. И так уж случилось: фронтовая дорога капитана Пескова пересеклась с дорогой великого писателя.
В письме с фронта Борис писал в Воронеж писателю Михаилу Михайловичу Сергеенко: «Толстой мне сопутствует всю войну». И тут же: «О посещении Ясной Поляны мечтал всегда. Помню себя на Волоколамском шоссе в декабре 1941 года. Около походной кухни удалось схватить газету, а в ней статья о разгроме немцами толстовской усадьбы. Плакал как ребенок...».В этом же письме Борис вспоминал: «На станции Лев Толстой в ноябре 1941 года я по личному почину взбудоражил райком и политотдел узла, организовал вывоз экспонатов комнаты, в которой умер Толстой – наша национальная гордость. Тогда станция усиленно бомбилась, на полу знаменитой комнатки лежали осколки стекол...».
А Ясную Поляну, в которой Борис мечтал побывать, он увидел в июле 1943 года. Вот как он пишет об этом жене в письме, датированном 27 июля: «Был в знаменитой толстовской усадьбе Ясная Поляна. Впечатление огромное, незабываемое. Чего стоит одна могила в дремучем лесу перед оврагом, могила бедного простолюдина, скромно обложенная деревом... Может, я где-нибудь это читал, но мне захотелось быть птицей и вить гнезда только в этом лесу и служить в усадьбе сторожем».
Немало было говорено-переговорено нами в свободные минуты, в ночные часы во время наших совместных походов в батальоны и полки. Борис часто вспоминал Воронеж, говорил о нем с любовью и нежностью. Видимо, у каждого человека навсегда остается одно самое главное в жизни место, которое мы называем отчей землей. Это не обязательно, знаю по себе, город или деревня, где ты родился. Скорее, это место, где прошли твои детские и юные годы, как правило, определяющие твой жизненный путь.Для Бориса Пескова таким местом, таким городом стал Воронеж.
Я никогда не был в Воронеже. Помню, как Борис обрадовался моим расспросам о Никитине и Кольцове, чьи судьбы связаны с Воронежем. Он знал улицы, по которым они ходили, дома, в которых они жили. Он так рассказывал о памятниках Никитину и Кольцову, что я видел не памятники, а живых поэтов. При этом он с упоением читал их стихи. После одного такого чтения Борис воскликнул: «Каково!» – и уверенно заявил: «Старик Некрасов с удовольствием подписался бы под этими стихами».Несколько раз Песков вспоминал о своей поездке в мае 1943 года в свой любимый Воронеж. Чуть ли не год он знал, что город разрушен и что жена и дети погибли.
Борис в ту пору писал матери: «У меня нет теперь дома, куда я привык рваться всей душой. Я теперь никуда не рвусь, фронт – вот мой дом. И после того, как я потерял семью, я больше всего боюсь получить ранение. Отправка в тыл меня пугает больше всего... Я не имею права жить после такой катастрофы без мести врагу».В январе 1943 года Песков писал М. Сергеенко: «Для меня сразу все пропало: и дети, и город, и друзья, и жена, и книги...». И в том же январе Воронеж освобождают наши войска, а еще через два месяца приходит письмо от Тамары Песковой, и Борис узнает, что жена и дети живы.Он впервые на десять дней покидает фронт, едет в Воронеж через Москву, где Литфонд ему дает «1500 рублей и литерную книжку на тысячу рублей», как впоследствии Борис сообщил своему другу писательнице Ольге Кретовой.
И вот Борис Песков стоит на улице Свердлова, возле дома номер 28, у своего родного порога. «От дома остались один фундамент и печь, заваленная листами кровельной жести, – пишет он своим родителям. – Узнал свою кровать, раму от пианино и сотни других металлических предметов, привычных и милых, без которых жизнь в прошлом была немыслима...» И в отдельном письме матери: «Мама! Поверьте, война заставила нас переоценить свои взгляды и привычки. Я, например, после войны никакой собственности иметь не буду. Эта вечная погоня за тем, чтобы у тебя стояло в комнате что-то лишнее, теперь мне кажется смешной».Вскоре мы попрощались с нашим славным Листопадом.Борис внес в блокнот ее адрес, оставил ей номер нашей полевой почты. Листопад стояла на пороге дома и глядела нам вслед.
Борис оглянулся несколько раз и махнул на прощание рукой. Мы сели в машину, где уже сидела группа корреспондентов.Начались горячие деньки. Подразделения нашей армейской части оттесняли все дальше и дальше немецкие батальоны, цепляющиеся за каждый выступ чужой земли, безнадежно сражающиеся за каждый населенный пункт. Война возвращалась туда, откуда она пришла на советскую землю. А по земле сквозь разрывы мин и бомб, сквозь пули и снаряды, сквозь развалины и пожары шла весна 1944 года. И падали рядом наши товарищи, наши боевые друзья, чтобы в последний раз обнять эту весеннюю землю и навсегда с ней расстаться, и так хотелось жить!..Теперь только жить и жить! – это сказал мне Борис, когда мы, получив задания, расстались с ним рано утром и пошли в полки, ведущие бои на подступах к городу Порхову. Небо было майское, солнечное и голубое, а дороги раскисли и потемнели от последнего снега. Борису, исходившему немало лесов и болот, любая дорога казалась нипочем. И я, помня его слова «шагаю в солдатских сапогах, а чувствую себя охотником», зашагал в моих огромных (на четыре номера больше!) сапожищах, отнюдь не чувствуя себя в такой роли.
Через несколько дней, 14 мая, Песков писал своему отцу: «Вот только что прибыл с самого переднего края. Провел ночь в окопе, самом близком окопе от немцев. Слышно, как они ходят в траншеях, – жидкая грязь чавкает у них под сапогами, слышно, как они качают воду ведрами. Тут, милый мой отец, в воздухе каждое мгновение что-нибудь на земле рвется...».
События на фронтах развивались стремительно. После снятия блокады Ленинградский фронт неудержимо наступал. Мы оказались между Вторым Прибалтийским фронтом и Ленинградским, между Латвией и Эстонией. Наша часть, соединившись с другими частями, превратилась в Третий Прибалтийский фронт, начавший широкие наступательные действия в Прибалтике в направлении старой государственной границы.Наша армейская газета «За честь Родины» стала фронтовой и уже называлась «За Родину». Мы с Песковым возвратились из полков, не виделись дней десять, и первое, что мне Борис сказал, было: «Отобрали у нас «честь», теперь мы не «За честь Родины», а «За Родину»...Редакция со всем своим хозяйством еле успевала за наступающими войсками. Мы освободили в течение двух недель более семисот населенных пунктов, форсировали речку Великую, освободили пушкинские места, и я, глотая слезы, стоял у памятника Александру Сергеевичу, который уцелел, как говорят в таких случаях, чудом. Мы вошли в город Псков...Псков взяла соседняя часть, но мы с Песковым вместе с несколькими корреспондентами добрались до Пскова.
Обойдя старинный собор с выбитыми окнами и изрешеченными стенами, мы поднялись на кремлевскую стену. Внизу широко открывалась река Великая, и свежий прохладный ветерок овевал наши лица. Мы сняли пилотки. Под лучами июльского полдневного солнца торжественно и празднично сияли купола. Борис с вещевым мешком за спиной, подставив ветерку бритую круглую голову, жадно дышал речной свежестью.Войска Третьего Прибалтийского фронта шли уже по литовским и эстонским полям, отрезая вражеским дивизиям пути к Восточной Пруссии. Все шире и шире становилась территория боевых действий. Редакция нашей газеты, чтобы иметь оперативные вести с полей сражения, прикрепила нескольких корреспондентов к главным частям, быстро продвигающимся к Балтике. Борис Песков был в числе откомандированных. Если кто-нибудь из нас отправлялся на передовую, то он прежде всего связывался с этим своеобразным корреспондентским пунктом, который был в курсе самых последних событий, и, как правило, действовал вместе с нашим постоянным корреспондентом.
Картину тогдашней журналистской жизни достоверно нарисовал сам Борис в письме Тамаре Николаевне Песковой. Хочется целиком привести письмо от 26 мая 1944 года. В нем – Песков, с его отважной душой, преклонением перед литературой, любовью к природе и верностью к людям, которых он любил.«Дорогая моя мамочка-женушка! Давно-давно я тебе не писал, ходил по болотам, как охотничий пес. Писем твоих я не вижу. Они приходят в мой чулан, а этот чулан далеко-далеко от меня. Сегодня конец моей второй командировки, и надо бы возвращаться, но пришла телеграмма с новым заданием, и я остаюсь на неопределенное время.В разбитой деревне кое-где остались фруктовые деревья. Они собрались буйно цвесть. Но вдруг пошли такие холодные циклоны, что все в природе затормозилось. Основная моя беда – выехал в жаркий день без шинели с одной плащпалаткой. И вот меня дерет холод.
Сегодня ночевал в немецком дощатом разобранном доте. Пустой холодный барак. На полу свернулся клубком. Под голову положил подшивки газет. Накрылся плащ-палаткой и скатертью со стола (в этом бараке что-то вроде библиотеки). Ничего, надышал под палаткой... Но колени страшно мерзли. Все-таки под шум циклона спал, хотя мало. Всю эту декаду я ни разу не раздевался. Когда ночевал в лесу, в палатке одной дивизионной газеты попалась книга Пришвина. Под гул канонады и пулеметной трескотни за столом у лампы как голодный глотал страницы за страницами. И унес меня старик Пришвин в чудесный, дорогой моему сердцу мир, в мир человечности, творчества, спокойной природы.
Немцы были далеко – 3,5 километра. За стеной палатки, над болотами, пел соловей. За столом сидели молодые ребята – офицеры. Каждый занимался своим делом.Милая моя, ко всему можно привыкнуть. Я тебе скажу, у самого переднего края над луговиной летают чибисы и кричат: «чьи вы? чьи вы?». А уж там, кажется, небо постоянно простреливается во всех направлениях. А он, милый чибис, живет, не хочет уходить с родной луговины. И никакого внимания не обращает на жужжание пуль и пение снарядов. Привык и я.Прости, что будут редко письма. Очень я занят. Не успеешь сделать одно, приходят телеграммы – делай другое, третье...Одно слово, женушка, – трудно мне. Но ведь ты знаешь, я труда не боюсь, лишь бы было интересно. «Бродяга» я сейчас. Самый настоящий «бродяга». А у нас на Руси бродяжить любили. Встанешь утром и не знаешь, где будешь кушать, где ляжешь спать. Очень интересно. А сколько людей перед тобой проходит! Уйма! Есть очень хорошие люди.Люблю тебя. Боря.»
В начале августа редакция меня послала в дивизию, где находился Песков. От него целую неделю не было корреспонденции, на телеграмму редактора он не ответил. Мы решили, что Песков где-нибудь на самом горячем участке наступления, видимо, попал в такое пекло, откуда нелегко выбраться, чтобы передать очередной материал в газету. Это случалось, и не раз, с каждым из нас.
Я вошел в уцелевшую избу недавно оставленной немцами деревни, увидел отгороженный плащ-палатками угол и улыбнулся, узнав «стиль» Бориса. Передо мной был очередной рабочий кабинет. Но за палаточной стеной я обнаружил одну кровать, на которой лежал Песков, накрытый в жаркий летний день несколькими одеялами. За моей спиной прозвучал женский голос:– Капитан заболел, трясет его, мы его укрыли одеялами...
Борис поднял тяжелые веки, и его обычно голубые глаза показались мне бесцветными. Увидел меня, обрадовался, даже руку вытащил из-под трехслойного покрытия:– Трясет меня малярия, глотаю акрихин, приступ вроде миновал. Позавчера пришел из батальона, еле сюда добрался, статью в редакцию передал, а сам свалился...– Я к тебе долго шел, видимо, статью твою уже получили... Что ж ты сразу не дал знать о болезни?– Года два назад на фронте потрепала меня малярия, и недавно, за несколько дней до твоего приезда к нам в редакцию, был приступ. Листопад чем-то напоила меня – и сразу как рукой сняло...Между прочим, я получил письмо от нее. Листопад тебе привет передает...– Да! – спохватился я. – Забыл о главном. Поздравляю тебя с Красной Звездой! Из старых работников редакции, говорят, пока ты один награжден...– Вот это меня как раз и огорчает, что один. Честно говоря, я очень рад приказу Военного совета, но как-то неудобно, что наградили меня одного. Хорошо бы и Цишевского, и Семенова, и Ковалкина... Они не меньше заслужили, чем я.
А ведь скоро войне конец! Теперь все понимают, даже немцы, что мы победим. Ах, какой будет праздник на нашей улице!– Вижу тебя после победы, – перебил я Бориса, – ты идешь в солнечный день по главной улице Воронежа при всех регалиях, медалях и орденах...– Как генерал Скобелев! – подхватил Борис. – Нет, не уцелеть мне, чует мое сердце, не доживу я до этого дня...– Ну что ты, Боря! Я еще в гости приеду к тебе в Воронеж, – стал я его утешать, понимая, что это болезнь настроила его на такой грустный лад.Вечером того же дня я передал телефонограмму редактору о том, что Песков болен, а наутро Борис, несмотря на мои уговоры отлежаться, заявил:
– Я должен разыскать роту, которая на танках первой ворвалась в город Остров... Командир роты, молодой, отчаянный парень, мой земляк, он наш, липецкий. Вместе с ним на танке была его жена, санинструктор. Представляешь, этот сорвиголова разместил роту на танках, посадил на танк рядом с собой жену и дал команду: «Вперед на город Остров!..».Бориса увезла попутная машина в Остров, а я должен был побывать в полках, ведущих бои в предместье латвийского города Резекне, и на другой день вернуться в редакцию.Выбраться из Резекне я смог только через два дня, когда город после упорного сопротивления немцев был взят. Редакция успела за эти дни перебраться поближе к войскам, и я еле разыскал своих.
Песков, вызванный редактором, уже отписывался. Вместо «здравствуй» он погрозил кулаком, дескать, напрасно я сообщил о его болезни.Тут же Борис рассказал, что он после долгих поисков нашел-таки знаменитую роту, подружился с ее командиром, капитаном, и его юной женой:– Целый блокнот исписал! Чудесная чета! – захлебываясь от восторга, говорил Борис. – Расписались в день объявления войны и вместе уехали на фронт. Он ранен, ходит, опираясь на палку, она – беременная, а из боя не выходят... И хозяйка она отменная! Собрала в лесу чернику и в консервной банке на костре сварила варенье. Впервые пил чай с черничным вареньем!..
На нашем фронте наступило затишье. Короткое затишье перед новым наступлением. Редакция расположилась в нескольких уцелевших домах эстонского хутора. В эти дни Борис получил письмо от своих детей: «Приезжай домой. Скоро день рождения нашей Лены. Или присылай карточку. Мы забыли, какой ты теперь есть». И папа, не имея возможности исполнить просьбу детей, «решил вместо себя послать книжку».
Так начинается рассказ Бориса Пескова «Папа». У рассказа подзаголовок «Книжка с фронта». В нем Борис описывает свой неосуществленный приезд в Липецк, куда его жена привезла детей и бабушку, потому что их квартира в Воронеже была разрушена.Папа снял фуражку, и дети ахнули: папа лысый. Потом всей семьей поехали кататься на велосипеде и на лодке, которую они сложили под командой отца из пятидесяти двух палочек...Когда Борис закончил рассказ, он попросил нашего фронтового художника, сотрудника газеты «За Родину» Юрия Цишевского, нынешнего художника журнала «Юность», проиллюстрировать книжку. Борис и Юра давно подружились на фронте, и часто очерки Пескова появлялись на страницах газеты с рисунками Цишевского.Несколько дней Юрий по вечерам, после сдачи снимков и рисунков в очередной номер, садился за оформление «Книжки с фронта». Борис не отходил от него, ревниво следил за каждым штрихом, подсказывал, советовал, помогал делать переплет.
Я держал в руках единственный экземпляр этой книжки перед ее отсылкой ребятам. Она была большого формата, аккуратно сброшюрована, написана рукой Пескова, украшена его фотографиями, щедро иллюстрирована рисунками Юрия Цишевского и выглядела настоящей книжкой.Борис вообще очень любил детей и, естественно, обожал своих собственных ребят. И хотя у него их было трое – сын Лева, названный в честь Льва Толстого, две дочери, Галя и Лена, – Цишевский нарисовал пятерых. Все они во главе с папой сидят на велосипеде, а двоих, самых маленьких, художник поместил в большой вещевой мешок за папиной спиной. Позади изображена мама, догоняющая путешественников.Подпись к рисунку гласит: «Папа сильный».Дата под рассказом «Папа» – 13 сентября 1944 года.
А через три дня, утром 16 сентября 1944 года, Борис Песков и другой писатель, специальный корреспондент нашей газеты Юрий Севрук, шли из местечка Тырва проселочной дорогой на передовую... Внезапно ударили вражеские минометы и смолкли. Одна мина разорвалась в нескольких шагах от идущих корреспондентов. Песков был убит сразу. Севрук скончался от ран в телеге, которая везла его в медсанбат.На войне не бывает случайной смерти, где бы она ни застала человека. Если он на фронте, если он выполняет боевой приказ, то нельзя говорить о случайной смерти. И все же! И все же!Я уже много раз думал: вышли бы Борис и Юрий на задание на полчаса раньше или позже, задержались бы ну хотя бы на десять минут – и миновала бы их эта мина.Капитан Борис Песков похоронен в прекрасном парке с двухсолетними елями, в братской могиле под красной звездой над мраморным памятником, где перечислены звания, имена и фамилии павших воинов. В этой солдатской могиле их немало... печальный список завершает «и др.».В двадцати шагах от братской могилы – мавзолей с гробом Барклая де Толли, в мавзолее – родовой герб, а под гербом – на муаровой ленте девиз: «Верность и терпение». Здесь было имение жены знаменитого русского полководца. Называется оно Ыйгевесте.
Борис погиб в солнечный, теплый сентябрьский день, когда с деревьев, кружась, падали желтые листья, пронзенные солнечными лучами...Золотой листопад!Я вспоминаю женщину из Муравьевки, где впервые увидел Бориса Пескова. Я вспоминаю светловолосую женщину, чьи волосы были скорее золотистые, нежели рыжие, женщину, которую он называл Листопад, и мне становится грустно.Передо мной фотографическая открытка. Ее подарил мне писатель Юрий Гончаров, живущий в Воронеже. На этой открытке – памятник над братской могилой, где покоится Борис Песков, а возле могилы запечатлена женщина с цветами, которые она ставит в вазу.Я смотрю на женщину, и видится мне, что это Листопад принесла осенние цветы Борису Пескову.
* * *
В гостях у поэзии
С годами солнце больше замечаешь...Оставаясь самим собой, художнику надо изменяться.Каждый художник имеет свои краски,и не надо менять краски своей палитры. Ровно десять лет назад, июньским солнечным днем, когда Ереван изнывал от полдневной жары, я и композитор Александр Павлович Долуханян подошли к тенистому саду и увидели белеющий сквозь листву двухэтажный особняк Сарьяна. Мы были точны. Прославленный художник, с которым Долуханян – они давние знакомые – ранее условился, пригласил нас приехать к нему в четыре часа.На садовой дорожке сначала нас встретила огромная собака, затем мы услыхали: «Жульба, свои!» – и тут же увидели хозяина дома. Широким, выразительным, я бы сказал, изящным, жестом он будто открывал перед нами дорогу. Невысокий, плотный, седая голова, прищуренные, очень внимательные синие глаза.
Художник и композитор обмениваются приветствиями на своем родном армянском языке, меня Сарьян легонько обнимает за плечи, и мы, сопровождаемые Жульбой, входим в дом.И сразу исчезают стены уникального особняка – и открывается удивительный сарьяновский мир, полный солнца и поэзии, и дух захватывает от этой необычной и бесценной щедрости. Яркие, сочные, живые краски излучают не только свет и тепло, но и утреннюю свежесть, и неповторимую музыку.
Над открытой дверью – портрет Эренбурга. Перехватывая мой взгляд, Сарьян говорит:– Тревожусь я об Илье Григорьевиче... Вот его сейчас критикуют. Наверное, у него есть ошибки, а разве у меня их нет, а разве у Горького их не было? Но о художнике следует судить по самому лучшему, по самому главному, что он сделал. Я не знаю ни писателей, ни художников, которые прожили бы жизнь без ошибок...Правильно говорят: не ошибается тот, кто ничего не делает, а еще правильнее говорят: на ошибках мы учимся!
Поднимаемся на второй этаж. Сарьян легко одолевает лестницу, бодро идет впереди. Мы в мастерской. Огромная комната вся в картинах. Одни закончены, другие – в работе, третьи – только начаты. Горы и цветы. Рассветы и реки. Невероятные цветочные сочетания. Долина Арарата. Полдень. Лето почти на всех полотнах. Лишь один зимний пейзаж – снег, синий, только что выпавший. Законченный портрет Петросяна. Он сейчас гостит в Армении, которая гордится новым чемпионом мира по шахматам.
Сарьян ни разу не присел. Долуханян просит его посидеть, отдохнуть. Мартирос Сергеевич лукаво оглядывает нас, иронически улыбается. И снова жест, так поразивший меня:– Это устали вы, а не я... Подумаешь, каких-то восемьдесят лет. Садитесь!.. – Мы усаживаемся на крепко сколоченные табуретки, садится и Мартирос Сергеевич. Он неожиданно обращается ко мне: – Прочтите что-нибудь из ваших стихотворений!..– В этом доме столько поэзии, что как-то неловко, и даже боязно, читать стихи, – растерянно говорю я.И тут мне на помощь приходит Долуханян:– А ты как раз и прочти стихотворение о поэзии.
Не пост, не чин и не профессия, –
Она превыше всяких благ,
И потому она – Поэзия,
Все лучшее зовется так.
Она дарила миру истины,
Не изменяя им, когда
Ее ссылали без амнистии,
Ее судили без суда.
Ее пытали в дни далекие,
И в дни недавние она
Небезызвестными пророками
Была на смерть обречена.
И что ей милости, и почести,
И жалкий лепет похвалы!
Она не терпит одиночества
И не выносит кабалы.
Не божество и не реликвия –
Она как долг, зовущий в бой.
Как бескорыстие великое,
Как вечный спор с самим собой.
Лжецам и трусам неугодная,
Всем честным людям верный друг,
И потому она – народная,
Святое дело наших рук.
Как воздух и как хлеб полезная,
Туда, где душно и темно,
Приходит запросто Поэзия
И открывает в мир окно.
– В мир – окно... Его открывали во все времена. Это относится и к поэзии, и к музыке, и особенно к нам, художникам. Картина – это тоже окно в мир! – говорит Сарьян и смотрит в большое окно, и ему видна снежная вершина Арарата. – Поэзия – в нас самих и вокруг нас.
Придумать прекрасное проще, чем увидеть его в существующем. Труднее всего открывать прекрасное в обыденном. Но в этом существо искусства и моего, и твоего, – обращается он к Долуханяну, – и вашего... Все дело в том, что надо вместить в одно окошко целый мир. Мне кажется, стихотворение и песня – более широкие окна, чем картина...– Какое стихотворение! Хорошая картина звучит, как стихотворение и как музыка... Я подумал, – говорю я, продолжая наш разговор о поэзии, – что ваши ранние картины менее солнечны...– С годами солнце больше замечаешь... Оставаясь самим собой, художнику надо изменяться.
Каждый художник имеет свои краски, и не надо менять краски своей палитры.– Это, как мне кажется, относится и к поэзии...– И к музыке, – добавляет Долуханян, – это именно то, что называется индивидуальностью, если ее нет, то ни приобрести ее, ни научиться ей нельзя!В стихотворении вашем есть строчка: «Все лучшее зовется так...» – зовется поэзией. Значит, в любом деле, нужном людям, есть поэзия. У каждого свое окно, но с годами это окно все больше и больше вмещает. Для того и существует она, поэзия, чтобы в капле росы уместить солнце! – заключает наш разговор Мартирос Сергеевич.
В тот же вечер я записал в блокнот нашу беседу. Но и без этой записи в моем сердце осталась наша короткая беседа о поэзии, сарьяновская мастерская, вся из окон в огромный и солнечный мир, все понимающий взгляд великого мастера, его очень выразительный жест, когда он приглашал нас в свой дом, и когда нас усаживал, и когда открывал перед нами окна своих картин. То был характерный жест художника.О, как нам в поэзии необходим этот жест! Жест может быть выразительнее слова, им можно передать движение души и звезд, нарисовать цветущую яблоню, вылепить облако и даже тину.
Жест, присущий тому или иному поэту, делает его художником, утверждает его интонацию, его индивидуальность в искусстве.Я был в гостях у самой поэзии. Его спокойная вера в себя жила в картинах. Он вписывался в каждую свою картину, каждая картина была его дыханием, его собственным окном в мир.Неслучайно я написал стихотворение о нашей встрече:
Я читаю стихи Сарьяну,
А под небом лежат снега.
Беломрарорную поляну
Свет лиловый тронул слегка.
Горы желтые гостеприимны,
Открывается Арарат.
Всюду лето. И я лишь зимний.
Краткий день. И ему я рад.
Всюду солнце. Роса как иней,
И цветы в июньском тепле.
Нету осени и в помине,
Только лето есть на земле.
Ах как солнечно в этом мире!
Ах как дорог земной покой!
Вся Европа в его квартире,
Вся Армения в мастерской.
Я читаю стихи Сарьяну –
И в снегу его голова,
И в глазах его неустанных
Вся севанская синева.
Все, что он делал, он делал для людей. Он был из тех поэтов, кому, по словам Маяковского, и «рубля не накопили строчки». Таких называют бессребрениками.
* * *
Страна Гренада
 Впервые я увидел Михаила Светлова осенью 1932 года. В ту пору я учился в Москве, на Мясницкой, в институте журналистики. Прочитал на афише два знаменитых имени – Михаил Светлов и Иосиф Уткин – и помчался на вечер.Я приехал из Николаева, города моего детства, переполненный стихами всех поэтов, Светлова и Уткина знал наизусть. И вот сейчас увижу живого Светлова, увижу живого Уткина.Аудитория была студенческая, зал набит до отказа, Иосиф Уткин выступал первым.
Впервые я увидел Михаила Светлова осенью 1932 года. В ту пору я учился в Москве, на Мясницкой, в институте журналистики. Прочитал на афише два знаменитых имени – Михаил Светлов и Иосиф Уткин – и помчался на вечер.Я приехал из Николаева, города моего детства, переполненный стихами всех поэтов, Светлова и Уткина знал наизусть. И вот сейчас увижу живого Светлова, увижу живого Уткина.Аудитория была студенческая, зал набит до отказа, Иосиф Уткин выступал первым.
Михаил Светлов
Высокий, стройный, красивый, с огромной черной папахой волос, он был очень эффектен на сцене. Уткин негромко, без единого жес та, ронял слова в благоговейную тишину зала. Ни одна строка, ни одно слово не пропадало. Казалось, он отлично знает цену тому, что сейчас произносит, и щедро делится сокровищами своей души.А потом как-то буднично, по-домашнему, нехотя вышел Михаил Светлов. Мне показалось, что его встретили более продолжительными аплодисментами, чем Уткина.
В ответ на горячие аплодисменты он оглядел аудиторию и по-свойски улыбнулся. Темно-серый костюм казался мешковатым из-за поразительной худобы поэта. Светлов приподнял острые плечи, нацелился в зал и начал читать так, будто он недавно расстался с нами, сидевшими в зале, и вот сейчас вернулся:Мы ехали шагом, Мы мчались в боях, И «Яблочко» песню Держали в зубах.Широко раздвинулись стены зала, зашумел ветер украинских степей, и мы увидели хлопца, который «хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»...
Светлов читал без малейшей рисовки, с характерной интонацией, не нажимая на такие строки, как «Гренада, Гренада, Гренада моя!», больше того, совсем не заботясь о том, слышат его или не слышат. Какое-то слово пропустил, одно слово заменил другим, хотя многие из нас могли бы ему эту строчку подсказать.Он читал в такой атмосфере абсолютного понимания и обожания, на такой взаимно доверительной волне, что ему действительно не стоило заботиться о впечатлении, которое он производит. Все делали прекрасные стихи, стихии, похожие на него.
Он читал «В разведке» – и «Меркурий плыл над нами – иностранная звезда», читал «Перед боем» – и мы видели, как на светловский «пиджачок из шевьота упали две капли военной грозы», читал «Рабфаковку» – и нам было жалко, что «Жанна Д'Арк отдает костру молодое, тугое тело...», читал «Границу» – и мы все вместе с поэтом не знали, «где граница между товарищем и другом». А в заключение зазвучало знаменитое стихотворение «Живые герои».С того вечера навсегда запомнились светловская манера чтения, светловский доверительный голос, его жест, его интонация. Я хорошо слышу серьезно-иронический голос поэта:
Я сам лучше кинусь под паровоз, чем брошу на рельсы героя.Спустя три года я пришел в знакомый мне дом в проезде Художественного театра, куда студентом приходил к Эдуарду Багрицкому. После его смерти поток молодых поэтов, тянувшихся к Светлову, увеличился вдвое. Я пришел сюда со стихотворением, посвященным памяти Эдуарда Багрицкого. Стихотворение было весьма слабое, ничего от него не осталось, кроме трех строк, которые запомнились только потому, что их одним прикосновением уничтожил Светлов. Я описывал вечер после работы, дальше шли строки: «...Вот когда вынимаешь, как дома, не волнуясь, не горячась, Эдуарда Багрицкого томик».Светлов посмотрел на меня лукаво прищуренными глазами, так что тоненькие морщинки сбежались у глаз:– Пока вы доходите до «томика», непонятно, что это вы там вынимаете, как дома, не волнуясь, не горячась...
Светлов говорил о большой, как он выразился, поэзии, о Блоке и Маяковском, которых он слышал, о Багрицком, с которым жил в одном доме и дружил.– Не сомневаюсь, вы знаете и Блока, и Маяковского, тем более Багрицкого, – он улыбнулся, – и меня немножко, раз вы пришли со своими стихами именно ко мне, но вот уверен, что нынешние молодые поэты не знают, скажем, такого изумительного русского поэта, как Марина Цветаева...Тут я, что называется, блеснул перед Светловым и на одном дыхании прочел цветаевское стихотворение «Бог согнулся от заботы», которое любил с мальчишеских лет.
Жаль, что Светлов, говоривший с такой любовью о Марине Цветаевой, высоко ценивший ее поэзию, не знал письма Цветаевой Борису Пастернаку, письма, где она откликнулась на появление в печати светловской «Гренады». Письма Цветаевой, адресованные Пастернаку, были опубликованы за границей спустя много лет, а вот это письмо не опубликовано у нас до сих пор: «Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его «Гренада» – мой любимый – чуть не сказала мой лучший – стих за все эти годы. У Есенина ни одного такого не было, этого, впрочем, не говори, пусть Есенину мирно спится».
Еще мы тогда говорили о Бабеле, об Ильфе и Петрове, об Одессе, Николаеве, Екатеринославе, который оказался родным городом и Светлова, и моего отца. Когда Михаил Аркадьевич узнал, что мой отец – портовый грузчик, а я несколько лет работал жестянщиком в меднокотельном цехе, строил корабли в николаевских доках, он поднял нарочито-удивленные брови:– А я, грешным делом, подумал, вы маменькин сыночек, а вы, оказывается, сын биндюжника и нормальный николаевский жлоб... Это уже другой компот!
После института я жил в Харькове, Иванове, Ярославле, много ездил как корреспондент газеты «Комсомолец Украины», но где бы я ни жил и где бы ни работал, хоть на несколько дней приезжал в два города: Николаев и Москву. В Москве, как правило, звонил Светлову. В один из таких приездов он предложил мне вместе пойти на вечер Михаила Голодного.
Мы шли не спеша весенней Москвой. Михаил Аркадьевич рассказывал, как три екатеринославских поэта – Светлов, Голодный и Ясный – переехали в столицу.– Голодный считал, что мы пишем не хуже московских поэтов, и уговорил нас переселиться в Москву... – Светлов покосился на меня. – Предчувствую, и вы скоро оседлаете столичного Пегаса. Кто-то из французов сказал: поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже...
Я посмотрел на Светлова, на распахнутый ворот рубашки, на весьма поношенный костюм и подумал: что-то провинциальное осталось в признанном московском поэте, но в моем понимании провинциальности, выражающейся в бескорыстной простоте, скромности, несуетности, житейской мудрости, милой интеллигентности. И, видимо, из присловья «поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже» – и возникли светловские строки:
На истории провинциалы
Высекли свои инициалы.
Он очень тепло говорил о Михаиле Голодном, их давней дружбе. Но тут же заметил: «Это не мешает нам портить друг другу жизнь, когда речь идет о стихах. Тут мы беспощадны». Он прочитал несколько строф Голодного, назвал их первоклассными, потом из другого стихотворения вытащил неудачное сравнение и заключил: «Стихотворение похоже, как Михаил Голодный похож... на Стеньку Разина».– Несколько дней назад, – продолжал Михаил Аркадьевич, – мне рассказал Голодный, как он мучился над одной рифмой и как ему помог найти рифму его старый папа. Каким-то образом папе стало известно, что Мишенька хочет зарифмовать «соловейку». На второй день после бессонной ночи торжествующий папа явился к сыну: «Эх ты, поэт, я ночь не спал и нашел-таки тебе рифму к «соловейка». – «Какую?» – Спрашивает Голодный. – «Канарейка», – гордо провозгласил папа.
Светлов был беспредельно добрым человеком. Все, что он делал, он делал для людей. Он был из тех поэтов, кому, по словам Маяковского, «и рубля не накопили строчки». Таких называют бессребрениками. Известна светловская шутка по поводу платяного шкафа, который друзья купили ему на новоселье: «Зачем мне шкаф? У меня всего один костюм, и он всегда на мне».В дни, когда свирепствовали в нашей стране националисты и антисемиты, в те незабытые времена, вошедшие в нашу историю как дни борьбы с так называемыми «безродными космополитами», распространился новый рассказ о Михаиле Светлове.У Центрального телеграфа, на улице Горького, неподалеку от дома, где жил тогда поэт, ему повстречался знакомый писатель, и у них произошел такой диалог. После обмена рукопожатиями Светлов неожиданно заявил:
– Я перешел на прозу... Пишу роман...
– И много ты уже написал?
– Пока одну первую строку.
– Какую же?
– На тебе креста нет, Рабинович!..
Из всех известных шуток и острот моя самая любимая шутка – правда, мне она кажется очень грустной – это реплика в ночном разговоре с приятелем. Михаил Аркадьевич поздно ночью написал стихотворение и позвонил по телефону:– Только что закончил одно сочинение, хочу его прочитать тебе...– Слушаю тебя, Миша! Светлов прочел стихи, друг похвалил стихотворение и при этом заметил:– Миша, стихотворение отличное, но сейчас три часа ночи, ты бы мог его и утром прочесть...– Прости меня, я думал, что дружба – явление круглосуточное. Светлов был веселым человеком.
Одну из своих книг он назвал «Я – за улыбку». Трудно себе представить Светлова без шутки, без улыбки. Это была то добрая, то острая, то ироническая, то добродушная, то грустная, но всегда талантливая улыбка. Даже в печальные минуты, даже в трудные дни, а таких минут и дней у него было предостаточно, он не обходится без улыбки. Он умел пошутить и над собой, и над другом, умел поддержать товарища дружеским словом, сдобренным улыбкой.
В войну мы были на разных фронтах. Только однажды наши пути сошлись в Москве, в резерве политработников, куда я попал после госпиталя, а Светлов, кажется, в результате какого-то переформирования. Помимо военных занятий у нас было много хозяйственных дел и обязанностей. Мы подметали помещение, пилили и кололи дрова, чтобы отапливать огромную казарму, часто назначались в наряды... Помню, Светлову надо было получить гонорар, а Михаила Аркадьевича как раз назначили в наряд. Я говорю: «Скажите начальству, что вы Светлов, автор „Гренады“ и „Каховки“»... Он усмехнулся:
– Вы наивный человек, если бы здесь оказался Достоевский, его наверняка заставили бы дневалить... И это было бы правильно! Пусть старик изучает жизнь!
От Светлова я узнал, что существует на земле Управление по охране авторских прав. Наверное, мне не поверят, но я тогда не имел никакого понятия о нем. Однажды Михаил Аркадьевич приветствовал меня таким образом:– Здрасьте, товарищ Рокфеллер! Вас ждет кругленькая сумма в Лаврушинском, из коей мне полагается на мерзавчик за это столь радостное сообщение!– Я получил наследство?– Вы меня удивляете!.. Не похоже, что вас воспитывали такие города, как Одесса и Николаев.
Кто написал «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» – я или вы? Вас три года разыскивает охрана авторских прав, вашего адреса у них нет, у меня тоже его нет... Вы где-то хаживаете по свету, а копейки за вашу песню идут в Лаврушинский переулок...О светловской доброте ходят рассказы, сочиняются легенды. Бескорыстный человек, он был прекрасным другом и верным товарищем неисчислимого количества людей, но он не переносил панибратства и не с каждым мог сесть за один стол.После семинара молодых поэтов, которым руководили Михаил Светлов, Константин Муридзи, Марк Максимов и я, мы решили отметить всем семинаром окончание нашей работы в ресторане Дома литераторов. Сдвинули столы, разместились. Во главе стола сидел Михаил Аркадьевич.
Неожиданно к нам подсел один несостоявшийся поэт, известный не стихами, а заявлениями во все инстанции по поводу того, что его не принимают в Союз писателей. Наступило замешательство. Незваный гость обратился к Светлову, назвав его Мишей. И тогда в тишине прозвучал ледяной голос Светлова:– Для кого я Миша, а для вас – Михаил Аркадьевич!Трудно себе представить, скольким людям, поэтам и не поэтам, за свою жизнь помог Михаил Светлов. Скольких людей он рекомендовал в Союз писателей, сколько написал рецензий, предисловий, пожеланий доброго пути молодым, сколько раз он выступал на литературных вечерах своих товарищей, сколько он отправил чужих стихов, сколько он провел конференций и семинаров, скольких людей он поддержал в трудную минуту!
По старой памяти (я жил несколько лет в Ярославле) издали книгу моих стихотворений в городе на Волге. Ярославская молодежная газета выступила со статьей, похвалила книжку. Другая областная газета – «Северный рабочий» – яростно обругала младшего «неразумного» собрата за статью и очень зло, недобросовестно цитируя стихи, отозвалась об авторе книжки. Это была вторая дуэль между газетами по поводу моих стихов. Первая произошла еще до войны.
Я уехал в командировку в довольно грустном настроении. Не знаю, как стало известно Светлову о перепалке ярославских газет, ни единого слова по сему поводу я не говорил. Вдали от Москвы я раскрыл «Литературную газету» и увидел заметку «Счастье нелегко нарисовать», под которой стояла подпись «Михаил Светлов». Вот последние строки заметки: «В общем, Марк Лисянский – хороший поэт. Комсомольская газета очень тепло отозвалась о его книге. Нам остается присоединиться к мнению ярославских комсомольцев».
Пусть меня простят за такую приятную моему сердцу цитату. Она, конечно же, мне дорога, но привел я ее для того, чтобы показать: Светлов умел не только шутить, но и быть трогательно внимательным, находить время и нужное слово для товарища.Есть у меня стенограмма творческого вечера по случаю моего пятидесятилетия в Центральном Доме литераторов. Я знал, что Михаил Аркадьевич нездоров, что он в больнице, и очень жалел, что его не будет на вечере. Светлов появился в президиуме внезапно. Сел с краю, на свободное место. Потом попросил слова.Понимаю: его речь, как это часто бывает с юбилейными речами, преувеличенно добра, но это последнее публичное выступление Михаила Светлова, и оно, безусловно, больше характеризует Светлова, нежели меня. Он сказал:
«В своей довольно долгой жизни я встречался со многими людьми. Очень часто с людьми талантливыми, значительно реже – с людьми благожелательными и совсем редко – с людьми, одновременно и талантливыми, и благожелательными. Марк Лисянский относится к самому редкому виду...В чем выражается эта благожелательность?
Сколько я его помню, он никогда не хотел быть впереди товарищей, он всегда хотел быть рядом с ними. Это редкое качество, особенно если взглянуть на теперешних молодых людей.И только с ним мог произойти такой курьез, что он написал лучшую песню о Москве, которая распевалась по всей стране, а в Москве его не прописывали. Это говорит о том, что у него была большая благожелательность, чем у нашей московской милиции.Здесь выражалось мнение, что 50 лет – половина жизни. А что же обо мне тогда говорить? Я по сравнению с Марком Лисянским – Джамбул!Мне кажется, что самая пора ему продолжать свое дело. И продолжать его на таком же уровне, на котором было все его творчество. Это обрадует и читателей, и его товарищей по перу. И чтобы не быть длительным оратором, скажу: давай обнимемся и поцелуемся!..».
Девятого мая 1964 года писатели-фронтовики собрались, чтобы отпраздновать День Победы. На этой традиционной встрече в последний раз в кругу своих друзей был Михаил Аркадьевич Светлов....Мы входили в Дом литераторов со стороны улицы Воровского. Вестибюль – в хвойных зеленых ветках. Полное впечатление, что ты входишь во фронтовой блиндаж. У дверей выпиваю положенные, как на войне, свои сто граммов, закусываю кусочком черного хлеба.
Звучит команда. Мы выстраиваемся. Перекличка. В одном строю – рядовые, лейтенанты, капитаны, майоры, полковники, генералы. Шумно. Поем фронтовые песни. Запевают поэты – авторы этих песен. Усаживаемся за столы. Председательствует Борис Полевой. Кто-то из наших именитых гостей держит речь. Неожиданно появляется Светлов. Похудевший (если так можно сказать о нем), еще более сгорбленный, он опирается на палку.Все знают, что Михаил Аркадьевич тяжко болен, что он уже несколько месяцев в больнице. И вдруг – здесь! Мы все встали. Выступающий маршал смолк. Полевой провозгласил:– Светлову – ура!И мы, взволнованные, по-армейски, по-братски трижды гаркнули:– Ура! Ура! Ура!
Михаил Аркадьевич улыбается, машет всем рукою и усаживается на предложенный стул неподалеку от председателя. Начинаются тосты. Подхожу к Светлову, трогаю за плечо. Он поворачивается – и сразу:– Лежу на койке, рядом сестричка, передают по радио твои стихи... Мы слушаем вместе с сестричкой, потом она многозначительно говорит: «Это были стихи Марка Лисянского». А я ей: «Лично знаком с этим поэтом...».Мы оба смеемся. Светлов ни к чему не притрагивается, только курит.– Миша, ты ведь бросил курить!– Тебе мало, что я не пью?
Минут через двадцать получаю записку. Михаил Аркадьевич просит поехать с ним в Дом актера. Подхожу к Светлову.– Понимаешь, пригласил сюда Семена Гушанского (артист Театра Ермоловой), а его не пустили без меня... Он передал для меня записку, что будет ждать в ВТО...Прошу поэта Александра Николаева довезти нас до Дома актера. У Саши своя машина. И он нас везет на Пушкинскую площадь. Михаил Аркадьевич все время смотрит по сторонам. Хотя двенадцать часов ночи, улица Горького запружена людьми. Машина еле пробивается. Улица вся в огнях и песнях. Светлов серьезен. Он говорит: «Народ хорошо помнит День Победы».
Мы входим в переполненный ресторан Дома актера. Здесь празднуют День Победы. От столика к столику – шепот: «Светлов!», «Светлов!»... Многие встают, приветствуют Светлова. Мы подсаживаемся к Гушанскому, к нам присоединяются композитор Модест Табачников и еще несколько незнакомых мне людей.
Михаил Аркадьевич не пьет, только посматривает на наши рюмки. Это так непривычно, что мы многозначительно улыбаемся. Тогда он лихо заказывает сто граммов белого вина. Приносят вино, он поднимает бокал – «За Победу!» – и отпивает глоток.
К нашему столику потянулись люди. Подходят к Светлову, объясняются в любви, чокаются, жмут руки, обнимают. Выстраивается очередь: актеры, театральные деятели, повара, официантки, судомойки... Здесь все его знают. Каждому он находит слово, улыбается, отшучивается:– О мой любимый народ!..
В два часа ночи с трудом достаю такси. Подъезжаем к Аэропортовской улице, где теперь Светлов живет в своей однокомнатной квартире. Михаил Аркадьевич опирается на мое плечо. Мы подходим к дверям. Прощаемся. Он устал. Шутит, а глаза печальные. Мне очень больно за Светлова.
Иду медленно. Надо мной звездное майское небо. Теплая весенняя ночь, а Светлов болен, и помочь ему ничем нельзя. Вспоминаю: давно я не слышал, как он читает стихи. Последний раз слушал Светлова в Ташкенте, в Театре Навои, во время декады русской литературы. Народ там гостеприимный. На вечере, приветствуя москвичей, эпитетов не жалели: большой, крупнейший, выдающийся.
Я следил за Михаилом Аркадьевичем. Он каждый раз поднимал брови, морщил лоб и глядел на выступающих добродушно. Дали слово ему. Встретили восторженно. Светлов начал читать «Живых героев». После первой строфы раздались аплодисменты. Я подумал: как в оперетте. Михаил Аркадьевич прервал чтение, и, дождавшись тишины, сказал:– Я снова начну...
С наслаждением я вбирал в себя светловский голос. Вспомнился 1932 год, когда я впервые услышал это стихотворение. И мне показалось, что я сижу в той студенческой аудитории, и мне нет еще двадцати, и Светлов совсем молод.
* * *
Строить лестницу в небо
Если Мотьку попросить отремонтировать звезду, он скажет: «Простое дело» – и начнет строить лестницу в небо...
Мотька Бердичевский, мой двоюродный брат, младший сын старшей сестры моей матери, родился на год раньше меня. У моей тетки росли трое сыновей. Старший – Павка – работал на заводе, по вечерам учился на рабфаке, перед самой войной стал инженером, средний – Мишка – окончил техникум и пошел по торговой части, а он, Мотька, с детских лет полюбивший рубанок, после шести классов бросил школу, поступил в фабрично-заводское училище, а затем работал столяром в модельном цехе строительного завода.
Отца у них не было. Он умер в двадцатом году от голода. Я его смутно представляю, помню больше по рассказам моей матери. Звали его Левой. Молчаливый, ни на что не жалующийся, добрейшая душа, он был желанным гостем у всех своих многочисленных родственников. В каждом дому он немедленно находил себе работу. Починял замки, вставлял оконные стекла, приносил воду, рубил дрова, мастерил полки, убаюкивал детей.
Мы жили одно время в поселке Варваровка, за Бугом. Отец мой был на войне, матери приходилось со мной, грудным ребенком, каждый день бывать в Николаеве. А вечером, в любую погоду, Лева, тощий, голодный, плохо одетый, провожал мою мать. Он нес меня через весь город, через длиннющий варваровский мост до самого дома, а мать с легкой сумкой шагала рядом. Его не надо было об этом просить. Все, что он делал, он делал с неизменной охотой и удивительной добротой.
Мотька весь был в отца: и статью, и нравом. У Мотьки были золотые руки и золотая душа. Коренастый, плотный, прочно стоящий на крепких ногах, он хорошо знал свое место на земле. Он был добр и великодушен, откликался на любую просьбу соседей и родственников.Сосед переезжал на другую квартиру – Мотька ему помогал, кто-то из друзей женился – Мотька брал на себя все свадебные заботы, умерла в соседней квартире одинокая старушка – Мотька ее хоронил.
На нашей улице не было дома, в котором он не починил бы ворота или дверь, не врезал замок, не отремонтировал водопровод, не исправил дымоход. Два раза ему не надо было напоминать – он откладывал свою работу, брал нужный инструмент и, не набивая себе цену, произносил всегда одну и ту же фразу: «Простое дело».Мотьку ничем нельзя было удивить.
Моя мать шутила: «Если Мотьку попросить отремонтировать звезду, то он скажет: „Простое дело“ – и начнет строить лестницу в небо».Бывало, в разговоре с ним кто-нибудь ввернет его «простое дело». Понимая, что над ним подшучивают, он прищуривал глаза, еще больше выпячивал свои толстые губы, потирал указательным пальцем между глазом и переносицей и добродушно говорил: «Вот именно, простое дело...».
Сарай в дальнем углу дома на Сенной улице, где жили Бердичевские, превратился в столярную мастерскую. Стены сарая были увешаны пилами и ватерпасами, заставлены досками, на полках в строжайшем порядке лежали рубанки и фуганки различных размеров, ножовки, коловороты, резцы, стамески. А Мотька последние деньги тратил на приобретение все новых и новых инструментов. Он собрал целую коллекцию ножовок, шпунтовок, сверл, полукруглых стамесок для нанесения узоров и звезд, для изображения цветов и птиц.
Мой отец подарил ему в день рождения узкий рубанок, который назывался странно для моего уха: шершебок. Мотька очень обрадовался подарку, тут же повел меня в сарай, сладко пахнущий свежей стружкой, и начал показывать, как работает шершебок.
Толстая стружка поползла, завилась кольцами, а Мотька, любуясь шершавой стружкой, пояснял:– Простое дело – шершебок, он строгает начерно, делает грубую обработку, а после шершебока пойдет в ход этот рубанок, – снова поползла стружка, но более широкая, – затем мы берем, – он потянулся еще за одним рубанком, – двойник-рубанок, – пошла тонкая стружка, открывая ровную, без единой задоринки, поверхность доски. Мотька с любовью провел ладонью по доске и предложил мне проделать то же самое. Доска была атласно-гладкой, чистой, будто ее отполировали.
В теткином доме все было сделано Мотькиными руками: большой обеденный стол, трехстворчатый шкаф, две этажерки, столик под швейной машиной, многочисленные полки и полочки, широкая скамья вдоль стены, карнизы для оконных штор. На очереди были рамы. Мотька решил заменить старые, почерневшие от времени и дождей рамы на всех окнах.Он работал серьезно и неторопливо, добиваясь законченности каждой канавки, каждой кромки, но никогда не хвастал делом рук своих. Когда соседи или родственники, восхищаясь его искусством, качали головами и цокали языками, на его лице было написано: ничего здесь нет удивительного, простое дело.
Главная черта характера, казавшаяся мне парадоксальной, заключалась в том, что Мотька, ничему не удивляясь, был чрезвычайно любопытным. Он мог довести до исступления собеседника расспросами, а затем перевести разговор на что-либо иное и снова задавать вопросы, и снова ничему не удивляться. Наверное, такая черта утвердилась от того, что он все свое свободное время отдавал любимому делу. Стоило мне появиться у него в сарае, как он, не переставая работать, начинал расспрашивать и в конце концов, после долгих расспросов, произносил свое «простое дело».
Достаточно сказать, что Мотька был единственным среди нас, кто не побывал в цирке, где шел международный чемпионат по французской борьбе. Я его встретил у трамвайной остановки. Трамвай должен был доставить меня к цирку.– Ты куда? – полюбопытствовал он.– В цирк... Сегодня решающая схватка: Поддубный – Железная Маска. Борьба до победы!– Победит Иван Поддубный, простое дело, – сказал Мотька, выпятив толстые губы, и спокойно продолжал свой путь домой.
Мотька не читал книг, не знал дороги в городской пионерский клуб, который был для меня родным домом, не ходил в театр и даже в кино. И это в те, тридцатые, годы, когда мы, его сверстники, с замиранием сердца следили за головокружительными трюками Гарри Пигля и Дугласа Фербенкса и с нетерпением ожидали очередной серии картины «Акулы Нью-Йорка».В то же время он долго и основательно расспрашивал меня о Есенине и Маяковском, о их взаимоотношениях, жизни и смерти. Его интересовал полиграфический процесс создания книги, он допытывался, как делается газета, но не удивился, впервые обнаружив, что редакция газеты «Красный Николаев» и типография, выпускающая эту газету, – два разных производства. Он мог часами слушать в моем пересказе ту же самую картину «Акулы Нью-Йорка», все ее четыре серии.
Через несколько дней после решающей встречи Поддубного и Железной Маски моя мать послала меня зачем-то к Бердичевским. Конечно, я не преминул заглянуть в Мотькину мастерскую. Он стоял по колено в стружках и держал в руках колодку с двумя дырочками и двумя палочками, которую называл реймусом. Мотька наводил этим самым реймусом линии, по ним должны были пройти параллельные кромки, а сам расспрашивал:– А на Шмидте была действительно железная маска?– Нет, что-то вроде черной повязки с дырками для глаз.– Сколько раундов они боролись?– Пять.– Кто из них выше ростом? А толще?– Шмидт.
– Я слыхал, что Поддубный долго не мог ухватить Шмидта, он все время выскальзывал...– Первые три раунда не мог...– Не показалось ли тебе, что Шмидт был смазан специальной мазью, поэтому и выскальзывал из рук Поддубного?– Он сильно потел, и оттого был скользким.– Ты считаешь, что он не был смазан?– Мне кажется, он просто потел...– Маску со Шмидта снял арбитр или Поддубный?– Маску снял сам Шмидт.– Ему, наверное, неприятна была эта процедура?– Надо думать.– Что же, он развязал повязку и отдал Поддубному?– Просто сдернул с лица и швырнул на арену...– Это неправильно... Борцу надо быть до конца сильным человеком и маску самому вручить победителю.
Как цирк встретил победу Поддубного?– Цирк бушевал. Все встали. Бросали цветы. Устроили овацию.– А как Поддубный?– Поддубный кланялся на все стороны ...– Это здорово, что мы победили... А где родился Поддубный?– Не знаю, кажется, на Волге...– А правда, что он в николаевском порту был грузчиком?– Правда...И все привыкли, что Мотька сам никуда не ходит, а только расспрашивает. Привыкли давно, и это никого не удивляло. И я, его двоюродный брат, тоже к этому привык.
Мне никогда не приходило в голову спросить, почему он не читает книг, не бывает в кино. Ни разу меня не осенила мысль пригласить его с собой в цирк или пионерский клуб. Я знал, что Мотька после завода, едва умывшись и поев, снова берет в руки рубанок, и никакие силы не могут его выманить из мастерской.Одет он был всегда чисто и аккуратно. Работал в синем комбинезоне, из-под которого выглядывал белый воротник рубашки.
Говорили, что Мотька влюблен и сразу после работы в своем сарае идет на свидание, но никто его не видел вместе с возлюбленной. Я же просто не представлял себе Мотьку рядом с девушкой. И как-то спросил, почему он так наряжается:– Простое дело: я ведь не плотник, я – столяр, – сделал он ударение на последнем слоге, – у плотника топор, да пила, да ватерпас, он больше орудует топором, пилит да обтесывает, а столяр – это другой класс... У столяра и ножовки, луковая пила, и фуганки, и дрели, и резцы, и стамески, и киянка... Столяр и одевается чище. Чем чище на работе одет столяр, тем чище у него работа...– Мотька, а почему ты не женишься? – в упор спросил я. – Все ребята на нашей улице поженились, тебе скоро двадцать семь, и тебе пора...Вопрос, как мне казалось, был неожиданный, но Мотька не удивился:– Жениться – дело простое, у меня сейчас много работы...
Понимаешь, хочу из наших двух комнат сделать три, а потом можно и жениться...Квартиру он перестроил, а вот жениться не успел. Началась война. Город эвакуировался. Завод, на котором он работал и где у него была бронь, эвакуировался в первую очередь. Улица Сенная опустела. Мотькина мать и его браться со своими семьями уезжали в Куйбышев, Мотькина невеста с родителями отправлялась в Ташкент, а он не захотел покинуть город, где он родился и вырос. Мне кажется, что я бы смог объяснить Мотьке, почему ему необходимо эвакуироваться из Николаева, но я в ту пору жил в другом городе.
Мотьку уговаривали братья, умоляла мать, плакала невеста, но он стоял на своем:– Я отсюда никуда не уеду. Я не могу бросить мой дом...Он не знал, что в такое время можно защитить свой дом лишь защищая свою страну. Бедный Мотька! Он даже и не догадывался об этом.Он посадил в набитый до отказа вагон свою мать и братьев, он помог уехать последним эшелоном невесте и ее родителям, а сам вернулся к стенам, которые он построил, к вещам, которые сделал своими руками.
Через несколько дней в Николаев вошли немцы, и сразу же они появились на Сенной. И на нашей улице нашлись предатели. Немцы обходили дом за домом, квартиру за квартирой. Они еще не грабили, они искали коммунистов и комсомольцев, они охотились за евреями.
Мотька был евреем, и его не надо было долго разыскивать. Когда два солдата с автоматами, вросшими в животы, вошли во двор самого крайнего дома на Сенной, он сидел на пороге своей мастерской и спокойно смотрел на приближающихся автоматчиков. Он в первый раз видел немцев и в первый раз видел автоматы. Но, похоже, его это не удивило. Он не изменил позы.Они остановились в трех шагах от него и сделали знак автоматами: встать. Мотька продолжал сидеть. Он был в своем синем комбинезоне, из-под которого выглядывал белый воротник рубашки.Немцы стали жестами показывать, что надо встать и следовать за ними. Мотька сидел. Один из немцев дал короткую очередь над Мотькиной головой, а второй подскочил и начал его тормошить и поднимать. Мотька поднялся, в то же мгновение на приблизившегося автоматчика обрушился со страшной силой топор.
Прогремела вторая очередь, но Мотька успел упасть на землю, и пули прошли над ним. Он изловчился, вскочил и метнул топор в растерявшегося немца.Мотька стряхнул пыль с комбинезона, перешагнул через автоматчика, рухнувшего к его ногам, и увидел: в открытую калитку один за другим вбегают немцы.Он шел, окруженный автоматчиками, и посматривал в окна знакомых домов, будто ожидал, что кто-нибудь выглянет и махнет ему рукой на прощание. И ему вслед смотрели люди, которые запомнили, как он оглянулся на свой дом и потер указательным пальцем между глазом и переносицей.Последний раз шел Мотька Бердичевский по Сенной улице, и, наверное, даже этому не удивлялся. Единственно, чему мог бы Мотька удивиться, так это тому, что о нем написан рассказ, но по сему поводу ему уже не придется произнести: «Простое дело».
* * *
Вареники
Больше всего у нас в семье любили картошку. Жили мы небогато. Работал один отец. Детей было трое. И картошка была основной нашей едой. Но самые простые блюда, приготовленные мамой из картошки, были необыкновенно вкусны. Я никогда не ел картошки, поджаренной так, как жарила мать.
А какие кнышики она делала! Я любил наблюдать, как она священнодействует над нами. На специальной доске раскатывала тесто. Тесто становилось таким тонким, что местами прорывалось. Затем мама смазывала просвечивающий лист подсолнечным маслом и на один его край укладывала подковообразный вал начинки из картошки. Но это была не просто картошка. Две трети мятой картошки и одна треть рубленой печенки составляли душу этой начинки. Мать заворачивала начинку в раскатанный до прозрачности лист, отсекала ребром руки малый кусок, натягивала тесто с двух сторон, залепляла начинку и тут же клала этот круглый комочек на сковородку с кипящим подсолнечным маслом.
Но самой любимой едой в нашей семье были вареники с картошкой. Тут в мятую картошку добавлялся поджаренный лук. Так же тонко раскатывалось тесто. Опрокинутым стаканом мама выдавливала кружочки. Оставшиеся обрезки теста раскатывала и снова из него вырезала кружки. На кружках вырастали холмики начинки. Кружок теста мама перегибала посередине и быстрыми щипками накрепко соединяла в одно целое его края.
Мы ели первое, а вареники – небольшие, аккуратные, пухлые – белели на доске. Уже вода в кастрюле кипела, но мать не спешила их туда опускать. Она с нами ела суп – чаще всего фасолевый – или борщ, который во всех городах называют украинским, а вареники лежали, потому что их надо было бросать в кипящую воду за десять минут до еды. Вот уже вареники в дуршлаге – ни одна капля воды не должна на них остаться, – вот они уже в кастрюле, куда вливается ложка растопленного гусиного жира. Мать трясет их в кастрюле и наконец подает на стол.Они стали еще меньше, тонкое тесто плотно обтягивает начинку, ни один вареник не расклеится. Они лежат – горячие, упругие, маслянистые, в легкой испарине, которая щекочет ноздри и вызывает приятное головокружение.
Я с наслаждением уплетаю вареники и вижу себя матросом на корабле, в далеком плаваньи. Корабль заходит в гавани незнакомых городов, я совершаю кругосветное путешествие, а мать все ждет меня... Наконец я возвращаюсь домой, корабль пришвартовывается в николаевском порту. Я иду по Сенной, у всех ворот и дверей стоят знакомые, я вхожу в наш двор, меня окружают соседи, выбегает мать. Мы входим в дом. На столе – вареники с картошкой. Мамины вареники...Все мои друзья, все соседи, все родственники, вся улица знала, что я люблю вареники с картошкой.
В один из майских праздничных дней старшая сестра моей матери, которая жила на той же Сенной, позвала меня на вареники. Мне было тогда уже двенадцать лет. Одетый по случаю праздника в новый светлый костюмчик, я перешагнул порог теткиной квартиры. Сразу обступили знакомые запахи теста, картошки, жареного лука.Хозяйка хлопотала у плиты, на мое «здрасьте, тетя» лишь повернула голову:– Садись, садись за стол, дорогой племянничек, через минуточку поспеют твои любимые вареники!..
Я сел за огромный стол, и тетя поставила передо мной миску с варениками. Сердце мое похолодело. В миске лежали большие, тяжелые, неуклюжие вареники. Я не предполагал, что они могут быть таких гигантских размеров. Тетин вареник был, по меньшей мере, втрое больше маминого.Я съел один вареник и понял, что второй не одолею. Начинка жидкая, тесто толстое, вязнет в зубах, а я привык, чуть ли не глотать не жуя мамины вареники. Второй вареник застрял в горле. Что делать?
Я не только любил то, что моя мать готовила, я уважал и ценил ее труд. Это уважение распространялось и на других. Я не мог обидеть тетю. Она знает, что вареники с картошкой – моя любимая еда, она так старалась для меня...Я стал рассовывать вареники по карманам. О, я это делал ловко и незаметно. Стоило тете отойти от стола или посмотреть в другую сторону, как я, продолжая жевать, отправлял вареник за вареником то в боковой карман тужурки, то в карман брюк. Сквозь карман тужурки я чувствовал тепло, а вот вареники в карманах брюк припекали довольно горячо. Я стойко терпел, пока не заметил, что надвигается более грозная беда: проступили жирные пятна....
Конечно, о том, как я ел у тети вареники, стало известно всем нашим друзьям, родственникам, соседям. Это еще долго было забавной темой разговоров на Сенной улице. Надо отдать должное тете: она вместе со своей младшей сестрой, моей матерью, каждый раз при встречах смеялась и говорила мне: «Так лучше твоей мамы в Николаеве никто не делает вареники».
В прошлом году я приехал в Николаев и сразу же пошел на Сенную. Мне показалось, что улица стала короче, меньше. Так с возрастом становится меньше человек. Не только акации, даже камни постарели, постарели калитки, ворота, балконы.Еще живы многие люди на Сенной, помнящие меня мальчиком, но нет на свете моей матери, нет отца, нет маминой старшей сестры. Двухэтажный дом, в котором мы жили, стал ниже. Нашу квартиру занимают незнакомые люди. Во дворе – он сейчас буквально вдвое меньше – живут некоторые наши прежние соседи.Меня увидела соседка по балкону, мать моего друга детства Володи Ищенко, тетя Варя, мы ее называли, «мадам Ищенко», как ее называла моя мать, – и заплакала. Подошли другие соседи. Володина мать утерла слезы:– Заходи в дом, сейчас должен прийти Володя...
Появился Володя с буханкой круглого хлеба. В детстве мы вместе играли в футбол, отстаивали честь Сенной улицы на футбольном поле, а сейчас Володя – один из тренеров николаевской команды «Судостроитель», за успехами которой я слежу. Разговор и начался с победы николаевских футболистов над прославленной московской командой «Торпедо». Нашу беседу прервала Володина мать:– Садитесь за стол, будем обедать!.. Вот вам борщ, а второе я вам сготовлю на скорую руку...Когда она через некоторое время вошла в комнату с миской вареников, у меня перехватило дыхание, а она сквозь слезы улыбнулась и сказала:– Эти вареники, конечно, не такие, как делала твоя мама...Вареники лежали аппетитные, горячие, маслянистые, пахучие, живые, они дышали, и легкая испарина щекотала мои ноздри. Они были гораздо меньше вареников, которые я когда-то прятал в карманы моего нового светлого костюма, и чуть-чуть больше маминых.
1970
* * *
Мишка Полседьмого
Мы всей семьей завтракали, когда без стука открылась дверь и в комнату ввалился незнакомый мне человек, упал на колени и, обращаясь к отцу, затрясся от рыданий:– Соломон, спаси меня, Соломон, спаси меня!..
Отец еле поднял человека – он оказался низеньким, кругленьким, с круглыми на выкате глазами, – усадил его на табурет, дал воды, и слышно было, как зубы стучали о кружку.Человек оказался нашим дальним родственником, жил в городе Вознесенске, имел большую семью, работал портным в какой-то кустарной артели и, конечно, у себя дома частным образом промышлял на своей швейной машине.
Из длинного рассказа, прерываемого всхлипываниями и причитаниями, выяснилось, что наш родственник приехал сегодня утром в Николаев и на толкучке купил брильянты, оказавшиеся обыкновенными стекляшками.Дрожащими руками он открыл красивую, с перламутровой инкрустацией, деревянную шкатулку. На черном бархате, как осколки неба, сияли брильянты, которые на самом деле не были ими.Я не мог оторвать глаз от этой сказочной красоты и был удивлен, что родственник расстраивается, имея такие великолепные вещи.
Еще неизвестно, думал я, может, ненастоящие брильянты в тысячу раз красивее настоящих. А тот, кто обладал ими, нервно тискал свои маленькие веснушчатые руки и не переставал причитать:– Все, что мы с женой накопили за всю свою жизнь, я сегодня в одно утро потерял… Что я скажу жене? Что я скажу детям? Что же мне делать?!– Что делать, надо было у меня спросить до покупки брильянтов! И зачем вам понадобились брильянты?– Теперь деньги ничего не стоят, я хотел их сохранить, вложить в драгоценности…
– Так вам и надо! – сказал мой отец, как маленький, я ожидал, что он еще язык покажет родственнику. – Мне стыдно за вас! Сейчас трудно не только вам, сейчас трудно каждому человеку, а я вас держал за честного труженика! – сердился отец, натягивая свою, с заплатами на локтях, тужурку из чертовой кожи. – Есть в Николаеве один человек, который вам может помочь. Он живет на нашей улице. Я схожу за ним…Мы с матерью сразу догадались: отец пошел за Мишкой Полседьмого, чья настоящая фамилия перестала существовать с того дня, когда мой отец и Мишка возвращались из Херсона, где они две недели грузили пшеницу на баржи, подходившие одна за другой к днепровским причалам. Николаевские грузчики соревновались с херсонскими, и вот наши поехали поделиться опытом. А что тут делиться опытом! Была бы сила да любовь к своему делу.
Отец и Мишка всегда работали вдвоем, вместе, рядом. Я несколько раз видел их на погрузке. Здоровые, отчаянные в работе, они играючи таскали пятипудовые мешки, похваляясь друг перед другом. На их широченных плечах мешки лежали уютно и покорно.Когда по узкому трапу Мишка поднимался без малейшего напряжения с набитым под завязку мешком, а вслед с такой же ношей поднимался мой отец, даже грузчики ими любовались. Обнаженные до пояса, бронзовые от нашего немилосердного солнца, с отчетливыми булыжниками бицепсов, которым могли бы позавидовать цирковые борцы, они свое нелегкое ремесло довели до виртуозного совершенства. Мешки лежали не шелохнувшись, как будто вросли в плечи. Казалось, грузчики и мешки соединялись в одно целое и нерасторжимое.
Впервые отец привез Мишку в порт после революции. Отцу едва исполнилось тридцать, а Мишке – двадцать пять. Он был профессиональным воромкарманником и слыл признанным мастером своего темного дела. Его пальцы, длинные и тонкие, как у скрипача, неслышно и незаметно оказывались в чужом кармане, и к ним, будто к магнитам, прилипал кошелек.
Невозможно было и подумать, что этот коренастый, сильный человек, чернобровый, черноглазый, с черною копною волос, с простодушным взглядом и детской улыбкой, просто-напросто карманный вор.Все николаевские уголовники считали Мишку своим атаманом, они его уважали за безошибочное умение очистить любой карман, они горделиво любовались его разбойной красотой и безоговорочно подчинялись его бойцовской силе. Мишка, который тогда не был Мишкой Полседьмого, а был Мишкой Каменецким и жил в конце нашей улицы, где-то возле базара, пришел к моему отцу и сказал:– Сема, выслушай Мишку, – он любил говорить о себе в третьем лице, не зря же он был атаманом, – выслушай внимательно…
На улице революция, Советская власть буржуев кончает, а воровать у трудового человека не по мне. Моя специальность при Советской власти теряет свою красоту и смысл, моя специальность при Советской власти – безнадежная. Я твердо завязал, возьми Мишку в грузчики, кое-какая сила у меня еще есть… Сема, ты веришь Мишке?– Я верю Мишке, – сказал мой отец, – завтра в шесть ноль-ноль мы идем с тобой в порт…Уголовники не только уважали атамана, они его побаивались, потому что в драке он был отважен и неукротим.
И все же они не могли простить ему измены, не могли смириться с тем, что их атаман стал обыкновенным работягой. Шестеро бывших дружков, шестеро отпетых урканов подстерегали Мишку, когда он вместе с моим отцом возвращался с работы.– Сема, прошу тебя не ввязываться в драку, Мишка сам с этими падлами потолкует! – и он медленно, вразвалочку, пошел на-встречу урканам, стоявшим плечо к плечу каменной стеной.– Постой, Миша! – крикнул отец, и тот, не поворачивая головы, спокойно остановился в пяти шагах от этой стены. – Ты меня глубоко обижаешь, мы с тобой рядом работаем, и мы будем с тобой рядом драться…
Они вернулись домой поздно ночью, довольные собой. Двое уголовников еще нашли в себе силы бежать, а четверо не смогли даже уползти с поля боя. Но вид победителей испугал мою мать. Рубахи висели клочьями на плечах, у отца рассечены обе брови, у Мишки ухо превращено в кровавое месиво. Они склонились над лоханкой с водой, которая сразу потемнела от крови, а потом, подмигивая, хохоча, хлопая друг друга по плечу, сели за стол. Отец сказал перепуганной насмерть маме: «Елечка, покорми нас, мы зверски проголодались», а Мишка уверял: «Мадам Лисянская, вы можете целиком положиться на своего мужа!».Так вот за кем пошел мой отец, выслушав нашего отчаявшегося родственника, решившего разбогатеть на брильянтах. Да, я еще не рассказал, как перестала существовать Мишкина фамилия!
Отец и Мишка сидели в херсонском ресторане в ожидании парохода. Они две недели не выходили из порта, где поработали всласть, а сейчас, после прощального заплыва по Днепру, сидели переодетые, причесанные, благостные и тянули холодное пиво.
В ресторан вошла женщина в ярком цветастом платье, а вслед за ней появился солидный мужчина с не менее солидным брюшком, одетый в хорошо отутюженный черный костюм, – похоже, из местных нэпманов. Они заняли неподалеку столик, и отец заметил, что Мишка, прищурив глаз, посматривает с кривой улыбочкой на вошедшую пару.– Вот, Сема, за окнами Советская власть, а тут буржуи не выводятся, – вздохнул Мишка, – мне это очень обидно!..– Мишка, – успокаивал отец, – так нужно сейчас Советской власти, значит, нужно и тебе, и мне…– Брось, Сема, извиняй меня, лично Мишке, – он прищурил свой чернявый глаз до щелочки, и в той щелочке загорелся хищный огонек, – лично Мишке это не нужно… Пойду попрошу у этого буржуя папироску!
Мишка подошел к чинно сидящей парочке, попросил у дамы извинения, а у мужчины попросил папиросу. Тот с превеликим удовольствием щелкнул серебряным портсигаром, описав им гостеприимный полукруг, затем вынул серебряную зажигалку. Мишка, изящно протянув свои тонкие музыкальные пальцы, взял папиросу, небрежно всунул ее в рот и наклонился к буржую. Тот поднес к папироске пухлый огонек. В эту минуту подошел официант и вручил мужчине меню.Мишка вернулся к своему столику, сел спиной к парочке и жадно затянулся. От папиросы поднялся ароматный дымок. Мишка снова сощурил чернявый глаз – в щелочке загорелся разбойный огонек – и положил на стол перед моим отцом золотые часы.– Который час? – машинально спросил отец, и Мишка, который тогда еще был Каменецким, взглянув на часы, ответил:– Полседьмого.
Он тут же подошел к соседнему столику, снова извинился перед дамой и протянул мужчине его часы:– Извиняйте меня, мой товарищ все беспокоится, как бы без нас не ушел пароход, боится опоздать на пароход, – простодушно объяснил он оторопевшему буржую, – а у нас, видите ли, нет собственных часов… Возвращаю в целости. Не советую держать часы, да еще золотые, в кармане жилетки… – Потом он обратился к отцу: – Надо трогать, Сема, уже полседьмого, нам пора на пароход!..
Они откланялись и пошли к выходу. Мужчина растерянно смотрел на спокойно удаляющихся дружков, на их широченные плечи. Как видно, придя в себя, он решил – и надо сказать вполне благоразумно – не поднимать шума, тем более, что его золотые снова были при нем.С того дня перестала существовать фамилия Каменецкий, будто ее никогда и не было. Мишка Полседьмого! Так называли его грузчики в порту, так говорили о нем соседи, так вспоминали его девушки, которым часто снился этот черноглазый и чернобровый красавец, убежденный холостяк и страстный футбольный болельщик.
Во всех южных портах знали николаевского грузчика Мишку Полседьмого. Это имя так срослось с ним, так сроднилось, что даже в портовой многотиражке под фотографией, где на фоне парохода Мишка был снят с лежащими на его плечах двумя пятипудовыми мешками, красовалась надпись: «Ударник труда Михаил Полседьмого».
Широко распахнулась дверь. Вслед за отцом вошел Мишка Полседьмого, и кухня, где мы по обыкновению завтракали, обедали и ужинали всей семьей, оказалась совсем маленькой. Родственник, не спуская с Мишки круглых глаз, в коих загорелась слабая надежда, повторил свой рассказ, а тот, не глядя на портного, почти не слушал, разглядывал брильянты, любовался ими, брал в руки, подносил близко к глазам и снова водворял их в гнезда черного бархата коробки.– Почему вы решили, что брильянты фальшивые? – перебил Мишка Полседьмого своего собеседника.– Человек, продавший брильянты, предложил зайти к какому-нибудь часовому мастеру, он заверил меня, что часовые мастера – специалисты, они точно устанавливают ценность любого драгоценного камня…– Что было дальше, Мишка догадался! Вы зашли к часовщику и часовщик подтвердил, что вы купили настоящие брильянты… А дальше?– Дальше мы расстались, я со своей покупкой пошел на Сенную, сюда, у меня в Николаеве нет больше близких, а по дороге мне встретилась другая будка с часовщиком, и что-то меня дернуло: дай, думаю, еще раз проверю свою покупку. Ведь я вложил в нее все свои деньги… Новый часовщик вылил на мою голову ведро с кипятком: вы приобрели не брильянты, а стекляшки!.. Я бросился назад…– Что было дальше, Мишка знает! Вы прибежали к первому часовщику, но ни его, ни даже его будки на том месте не оказалось.Наш родственник подтвердил, что все было именно так. Мишка
Полседьмого не спеша завернул в газету красивую шкатулку с брильянтами, попрощался со всеми, а мне, мальчишке, как равному, подмигнул прищуренным глазом, в щелочке которого загорелся веселый огонек, – дескать, вот какие, брат, бывают дела, и сказал:– Ждите Мишку!Его не было два дня. На третий день, под вечер, он появился на нашем дворе с газетным свертком под мышкой. Я подумал, что в свертке та самая шкатулка с брильянтами. Мишка Полседьмого вошел, сопровождаемый мной, в дом, положил на стол сверток, развернул его – я впервые увидел столько денег – и добродушно сказал нашему родственнику из Вознесенска:– Посчитайте, здесь все ваши деньги…
1971
* * *
Бума
Так началась наша дружба, великое товарищество, мальчишечья, юношеская, мужская дружба, встречающая на своем пути тысячи испытаний... И нет в мире цены ей, вышедшей из всех испытаний целой и невредимой.
Сначала мы были соперниками. Нам обоим нравилась одна девочка – Лина Проценко. Каждый из этого классического треугольника, полного драматизма, перешагнул четырнадцатилетний порог своей жизни. А скрестились наши дорожки, как шпаги, на песчаном берегу широкого Буга, на двадцать пятой даче, где среди тополей, акаций, сирени, шелковиц раскинул свои белые брезентовые палатки пионерский лагерь.
Июльские солнечные дни были наполнены нашими голосами, нашим смехом, нашей свободой от школьных, домашних и прочих обязанностей и забот, а теплые вечера, подсиненные небом и бугской водой, охваченные задумчивым пламенем наших костров, казались таинственными и сказочными.Мы дышали горьковатым настоем деревьев, трав, вечереющей реки, смолистым дымком, аппетитным ароматом картошки, испеченной в золотой золе утихающего костра, и пели знаменитую песню той незабвенной поры:
Ах, картошка, объеденье-денье-денье,
Пионеров идеал-ал-ал.
Тот не знает наслажденья-денья-денья,
Кто картошки не едал-дал-дал!
Я понимал, что шансы моего соперника предпочтительнее. Он был красивее меня и, что самое досадное, выше меня. Единственное утешение: у него было какое-то смешное имя – Бума, ребята его называли Бумкой. Кроме того, я писал стихи, и об этом знали все, в том числе Лина, потому что в лагерной стенгазете под стихотворением красовалось мое имя. Но вскоре Лина показала мне листок со стихотворением моего соперника. Под ним стояла подпись: «Б. Магнезин».
Главное мое преимущество рухнуло. Я ревниво сравнивал себя с ним и видел: дела мои плохи. У меня нос картошкой, у него – прямой, с легкой горбинкой, у меня брови – какие-то торчащие щетинки неопределенного цвета, у него – две темные, аккуратные полоски, у меня – не волосы, жестокие колючки, а у него – мягкие, пшеничные, которые хочется погладить. Когда он улыбался, появлялись ямочки на щеках, а у меня, как я ни старался, они не получались. Да и рост! То, что меня с малых лет мучило. Он был на полголовы выше меня.
Девушки обычно предпочитают, как я потом не раз убеждался, красоту всем иным человеческим достоинствам. Лина Проценко явно благоволила не ко мне, а к Борису Магнезину. Самое обидное заключалось в том, что мой соперник так был уверен в своей победе, что ничего не предпринимал для ее достижения. При встрече со мной он не хмурился, если мы оказывались вместе с Линой, он, в отличие от меня, не старался быть более ловким, более разговорчивым.Мы стояли с ним у сложенной крестнакрест многоэтажной дровяной клетки, которая должна была вот-вот выпустить на волю огонь костра, и Бумка неожиданно, будто между нами ничего не случилось, шепнул: «Пойдем к Бугу, там сейчас никого нет, почитаем друг другу стихи».
Предложение меня ошеломило. В том, как просто оно было произнесено, и в самой его сути я снова почувствовал превосходство, которому Бумка, по-видимому, не придавал никакого значения. Это рыцарское великодушие не могло не вызвать ответа в моей душе.Так началась наша дружба, великое товарищество, мальчише- чья, юношеская, мужская дружба, встречающая на своем пути тысячи испытаний. Она преодолевает время и пространство, горести и беды, в равной степени – радости и удачи. И нет в мире цены ей, вышедшей из всех испытаний целой и невредимой.
Дружба не должна становиться после испытаний сильнее, она должна оставаться такой, как была. Дружба не терпит признаний и боится объяснений. Может быть, именно этим она и отличается от любви. Существует только одно обстоятельство, разрешающее одному из двоих говорить о дружбе, есть в жизни исключение из железного правила.Как это ни горько, из нас двоих на такое исключение имею право я.
Мы жили на разных улицах: я – на Сенной, он – на Большой Морской. И это неслучайно. В те времена, в отличие от сегодняшних, улицы еще сохраняли остатки прежних порядков. Сенная была улицей портовых и заводских рабочих, ремесленников, кустарей, торговцев, на Большой Морской жила интеллигенция – служащие, врачи, адвокаты, педагоги.
Мы шли с Бумкой по длинной Малой Морской, соединяющей наши улицы. Он только что побывал у нас на Сенной, мы всей семьей обедали. На третье отец принес из погреба полосатый, холодный, огромный даже по николаевским меркам кавун. Вчера отец приволок его из порта. Когда он вошел с кавуном во двор, соседи сбежались посмотреть на гиганта. Сегодня в честь воскресенья и моего гостя отец водрузил на стол кавун, а Бумка, подняв уголком удивленные брови, сказал: «Я еще такого не видел». Отец едва притронулся ножом к полосатому гиганту – он треснул, как разорванная парусина, и трещина молнией прошла от полюса к полюсу.Бума понравился моим родителям, особенно матери, и прежде всего тем, что хорошо учится. И вот сейчас Бума вел меня к себе на Большую Морскую.
Мы продолжали восторгаться кавуном, но я заметил: все грустнее и грустнее Бумкины глаза. Потом он умолк, и мне показалось, он хочет сообщить что-то важное.– У меня родителей нет... – предупредительно начал Бумка. – Я их не помню. Мы жили в городе Балта, я там и родился. Отец ушел в четырнадцатом году на войну, попал в плен, оказался в Румынии, там женился; мне был год – умерла мать. Меня сюда привезла бабушка. Куда девался отец, никто не знает... Я с тех пор живу у дяди и тети, они хорошие, я у них как сын, у них есть свой сын, он мой младший брат...
– А почему тебя Бумой назвали? Разве бывает такое имя?..– Бабушка рассказывала, что я до двух лет не умел говорить, первые мои слова были: бум-бум-бум... Так и пошло – Бума, а по-настоящему я Борис...Мы поднялись по невысокой деревянной лестнице полутораэтажного дома на просторную застекленную веранду, похожую на аквариум и сплошь увитую диким виноградом. Первый, кого я увидел в распахнутых дверях, ведущих с веранды в квартиру, был ярко-веснушчатый мальчишка лет восьми-девяти с медно-красной стриженой головой, которая, казалось, жаром пышет. Мальчишка был моим тезкой, его звали Марком.
Бума меня представил тете, дяде и бабушке. Дядя – я уже знал, что он учитель, преподает русский язык и литературу, – поднялся с качающегося кресла – оно было не на ножках, а на старых изогнутых полозьях, – осмотрел меня с ног до головы и спросил, в какой я учусь школе. Я ему ответил, и он меня удивил тем, что знает моих учителей. Потом он спросил, хорошо ли я учусь. Вопрос меня несколько озадачил, я медлил с ответом, подбирая подходящие слова, но меня выручил Бумка, категорически заявивший: «Он учится хорошо».Дядя поднял над своей головой указательный палец и наставительно произнес: «Учиться надо хорошо, иначе незачем учиться». Я тогда не знал, что Бумкин дядя тоже пишет стихи.
Николаевский яхт-клуб...
Его слова мне показались двумя стихотворными строчками, а поднятый палец – восклицательным знаком в конце этих строчек.Квартира, где жил Борис с дядей, тетей, их сыном и бабушкой, меня поразила. Мы находились в просторной, высокой, хорошо обставленной комнате. Я никогда не видел такой богатой комнаты. Из нее вела дверь, прикрытая цветной занавеской, и мое воображение рисовало еще не одну комнату за той занавеской.
Половину стены занимал шкаф с книгами, в углу возвышался огромный, как дерево, фикус, между окнами тускло блестело лаком пианино, на стене живописно темнела в золоченой раме картина, на противоположной стене – и это я видел впервые – висел ковер. Но больше всего меня удивила качалка – кресло на изогнутых круглых полозьях. Никогда не предполагал, что она существует на свете. Я еще много лет считал: если в квартире есть качалка, то это, несомненно, богатый дом.
Между тем за цветной занавеской была одна небольшая комната, а дом оказался совсем не богатым, не богаче дома, в котором я рос, хотя ни пианино, ни ковра на стене, ни тем более качалки у нас не было. Когда мы с Борисом заканчивали седьмой класс, мы уже понимали: надо быстрее становиться на собственные ноги, надо помогать старшим. В семье, где пять человек, жить на одну зарплату трудно. И мы решили стать фабзавучниками, получить специальность.
Мы пошли работать и учиться на судостроительный завод.Ах, как мы в ту пору богато и широко жили! Вот когда нам привалило большое, настоящее богатство. Оно было нашим заводом, со стапелей которого, словно с наших рук, где фонарями горели первые мозоли, сходили океанские корабли и уходили по Бугу к морю, в далекое плавание. Оно было нашей страной, где мы жили достойно и бескорыстно, самоотверженно и яростно, с надежной уверенностью и святой верой во все, что делала наша страна. Оно было нашей дружбой, родившейся из любви к поэзии, нашей жизнью, где не было тщеславия, суеты, зависти.
Конечно, обо всем этом несметном богатстве мы не задумывались, оно было нашим, как собственное сердцбиение. Бесценно и неисчерпаемо такое богатство. Над ним не дрожишь, делишься им охотно с другими, не боишься, что кто-то тебя обделит, даже не думаешь о нем.Мы просто жили. Мы с Бумкой никогда не клялись в вечной дружбе. Мы просто дружили. А ведь это совсем непросто.
Нас породнила не улица – мы росли на разных улицах, не школа – мы учились в разных школах, не завод – мы работали в разных цехах: он – токарем в механическом, я – судовым жестяником в меднокотельном цехе, – и даже не стихи. Стихи нас свели, но породнил полынный воздух южных степей, породнило восторженное доверие юности и братское чувство взаимной необходимости, породнило время больших испытаний и великих устремлений.Воскресным осенним днем, студеным и прозрачным, пожелтевшим от облетающих акаций, кленов, тополей, мы шли по Потемкинской. Издалека нарастал звон и грохот трамвая.
Бумка неожиданно толкнул меня в плечо: «Давай съездим на двадцать пятую!».Мы помчались к остановке. Трамвай начал замедлять ход. Мы вскочили на подножку полупустого вагона. Трамвай, звеня и дребезжа, повез нас знакомым с детства маршрутом мимо одноэтажных, аккуратно побеленных домов с железными воротами, мимо редких двухэтажных особнячков с парадными дверьми и балкончиками с витиеватыми решетками, черневшими сквозь поределую листву дикого винограда.
Бригада жестяников меднокотельного цеха. Слева направо: Ширяев, Лисянский, Бесов, Шкарупа, Ульянов (в середине). После выпуска из ФЗУ. Черноморский завод. Николаев, 1932 г.
Нетрудно было догадаться, что Бумке захотелось побродить по двадцать пятой даче, той самой, где года четыре назад мы жили в белых брезентовых палатках и пели песню о картошке, испеченной в золе нашего пионерского костра. После того лета мы частенько бывали там. Благо путь к ней, казавшийся когда-то чуть ли не путешествием на край земли, с каждым годом становился все короче и короче. Несколько раз мы запросто пешком добирались сюда.Мы сошли с трамвая на последней остановке, у яхт-клуба, и пошли по вязкому песку, усеянному желто-лимонными листьями, вдоль дач, многочисленных домов отдыха, санаториев.
Мы шли медленно, утопая в песке, а Бумка, приподняв плечи и втянув голову, копируя своего дядю, его голосом нараспев говорил:– Бума, ты уже взрослый, пора четко наметить свой жизненный путь, ты чертовски рассеян, ты не умеешь сосредоточиться на чем-либо определенном... Я сам писал в юности стихи, стихи стихами, но пора выбирать дорогу. То ты судостроитель, то хочешь быть врачом, то собираешься стать писателем...
Бумка меняет высокий штиль и назидательный тон:– Когда же я дяде заявил, что хочу перещеголять Чехова и Вересаева, они были врачами и писателями, а я хочу стать и судостроителем, и врачом, и писателем, он назвал меня легкомысленным щенком и добавил: «Это все влияние твоего дружка!» – Бумка поднял над головой указательный палец, точь-в-точь, как это делал дядя, и ткнул им в меня: – Ясно? Мы расхохотались.– Что ж, – сказал я Бумке, – ты, можно сказать, судостроитель, остается стать врачом, а там, глядишь, и в писатели выбьешься!
Деревья, за лето побронзовевшие, стояли звонкие и сухие. Между стволами струился холодноватый свет Буга. Палаток не было, и лишь вытоптанные квадраты да гнезда креплений напоминали о том, что совсем недавно здесь белели палатки. Вся дача от этого выглядела грустной, всеми забытой и покинутой. Мы, притихшие, бродили из края в край, наткнулись на обгоревшую ямину – здесь мы собирались вокруг костра...
Мы посмотрели друг на друга, и мне почудилось, что в эту минуту мы повзрослели на несколько лет и, как видно, одновременно подумали о Лине Проценко, из-за которой когда-то на этой даче скрестились наши шпаги.Лину мы иногда встречали в городе, повзрослевшую, на высоких каблучках. Все милое, все нежное, что делало ее в наших глазах необыкновенной, погасло под слоем пудры и красок.
При встречах Лина смотрела на нас как на мальчишек, хотя приветливо улыбалась. А ведь совсем недавно, когда ей исполнилось восемнадцать лет – она оказалась немного старше нас, – мы были на ее именинах. Лина, подражая своей матери, уже курила. Бумка подарил ей пепельницу и вложил туда листок со стихотворением под названием «Надпись на пепельнице»:
Когда-нибудь тебя, наверно, спросят:
«Скажите, кто вам это подарил?».
Ты скажешь, отряхая папиросу:
«Друг, который не... курил».
Мы продолжали бродить по двадцать пятой даче. Ее сумеречная пустынность, ее предвечерняя грусть передались нам. Мы вышли к реке, на безлюдный берег, к деревянному мостку, в который уткнулись носами несколько лодок, и Бумка, обращаясь ко мне, негромко начал:
Ты помнишь! В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.
Четыре – серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
ходили важно мимо нас.
Это было одно из наших самых любимых стихотворений. Сейчас оно казалось особенно уместным и необходимым.
Мне почудилось, что сам Александр Блок, слегка откинув голову на высокой царственной шее, здесь, на бугском берегу, читает свое стихотворение:
Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг – суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.
И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал,
Когда на низком семафоре
Последний отдали сигнал...
Его серые глаза поголубели, они стали совсем синими, и голос прервался от волнения, затруднявшего дыхание. Последние строчки он произнес упоенно и бережно, как молитву, как заклятие, как признание в любви к поэту:
Как мало в этой жизни надо
нам, детям, – и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.
Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран –
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!
Борис беззаветно любил поэзию. Он глубоко ее знал, читал наизусть многих поэтов, он жил поэзией, умел видеть, слушать, ощущать поэзию. Любимые поэты всюду его сопровождали. Лицом он все больше становился похожим на Гейне: открытый лоб, прямой с горбинкой нос, тонкие ироничные губы, легкие молнии бровей над чуть выпуклыми серыми, почти голубыми, глазами, а статью – на Блока: стройный, изящный, с летящей походкой, с гордо вскинутой головой на высокой шее.
Мы условились встретиться неподалеку от проходных ворот, у заводской Доски почета. Механический цех, где Бума работал токарем по металлу, был ближе к воротам, чем мой меднокотельный. К тому же я весь день провел в доке, на корабле. После гудка поспешил в цех, оставил инструмент и сменил свою брезентовую рубашку, обожженную кислотой, измазанную краской, на футбольную майку и куртку. Когда я приближался к условленному месту, в голове еще шумело от пневматического грохота.
Бума нетерпеливо прохаживался взад-вперед у Доски почета, выискивая меня в людском потоке, хлынувшем к проходным. Я залюбовался Бумкой. Все ему было к лицу, все на нем сидело ладно, ловко, независимо. Даже простая заводская одежда – замасленная кепка, оттянутая назад, распахнутый короткий пиджачок, заметно потертый, темная косоворотка, заправленная в брюки, – все на нем торжествовало и казалось необычным.
Поэты – пусть меня простит человечество! – все-таки и внешне чем-то отличаются от всех остальных смертных. Борис Магнезин всем существом, обликом, всем своим видом походил на поэта.В руках у него была общая толстая тетрадь в темном клеенчатом переплете. Эту тетрадь я не один раз видел у него дома. Он ее прятал, главным образом от дяди, среди книг в шкафу. Когда мы оставались одни, Бума вытаскивал тетрадь из своего тайника. Она была на треть заполнена его стихами. Стихи, вписанные ярко-синими чернилами, пестрели поправками, перечеркнутыми строчками, и даже страницами.
Сегодня собирался наш заводской литературный кружок «Шкив». Я наконец уговорил Бумку принести свою тетрадь на занятие кружка. До этого он приходил, слушал других, иногда принимал участие в обсуждении чужих стихов, но больше помалкивал. Несколько дней назад я ему сказал: «Ребята хотят послушать твои стихи». Этот довод оказался убедительным. Он еще слабо упирался, дескать, стоит ли их читать, сплошная мура, потом махнул рукой: «Вам же хуже будет!».
Я подошел незаметно сзади, обнял Бумку чуть ниже живота, как это он любил делать со мной, и, оторвав от земли, приподнял. Тетрадь он удержал, а кепка с головы слетела. Он закричал: «Шляпундия упала!», – и тут же был снова возвращен земле. «Шляпундия» – Бумкино слово, так он сначала называл шляпу своего дяди, а потом любой головной убор, будь то шапка-ушанка, фуражка, кепка или женская шляпка.
– Подождем кузнеца! – сказал Бумка. – Он, как всегда, опаздывает, хотя, наверное, все ребята собрались, нехорошо, чтоб нас ждали.Не успел он кончить фразу, как подошел Миша Хазанов. Его-то мы и называли «кузнецом». С Мишей мы познакомились недавно и сразу подружились. Он, как и мы, только-только окончил фабзавуч, работал в кузнечном цехе. Большой, выше нас на голову, малоразговорчивый, с удлиненным лицом, на котором светились кроткие глаза, Миша Хазанов смахивал на Бориса Пастернака, чей портрет в книжке он первый нам показал, гордясь этим сходством. Пастернак был его кумиром. Это чувствовалось и по стихам, где звучали пастернаковские клавиши и грозы, и Шопен, и капли с кровель...
Мы гордились дружбой с Мишей еще и потому, что он был чемпионом нашего завода по шахматам.Редакция многотиражки была рядышком. Когда наша тройка появилась в комнате с окном во всю стену, со столом, заваленным подшивками газет, оказалось, что собрались почти все шкивовцы. Они разместились на табуретках, на кожаном диване, на длинном редакторском столе, несколько человек уселись на полу. Из рук в руки переходил сегодняшний номер газеты, пахнущий свежей, еще липкой, типографской краской, особенно жирной на темных клише и заголовках. В газете была очередная наша литературная страничка.Собралось нас человек двадцать – ядро литературного кружка. Люди разных специальностей: чеканщики и сварщики, медники и жестяники, модельщики и кузнецы, литейщики и механики, токари и слесари, – знающие свое рабочее место на земле и любящие литературу.
Мы давно сдружились, что нисколько нам не мешало из-за одного неточного слова набрасываться друг на друга, потому что в цехе мы хорошо знали: если хотя бы одна деталь неточна, вся работа идет насмарку. Мы умели находить малейшую слабинку: то, что у себя не замечаешь, у другого – отлично видишь. Конечно, были обиды и раздоры, но они оказывались недолговечными, как и наши сочинения, в которых мы сами быстро разочаровывались.У нас были свои Есенины, свои Сосюры, свои Маяковские, Багрицкие, Пастернаки, Саяновы... Уже одно то, что мы научились различать это, помогало нам в какой-то мере постепенно избавляться от детской болезни подражания.
Но был у нас и свой Магнезин. Его стихи были необычны, и редактор многотиражки наотрез отказывался помещать их в газете. Он говорил, исключая, по обыкновению, из подборки для литературной страницы стихи Магнезина: «Мне философия не нужна».Это увеличивало интерес к Бумкиным стихам, делало их запретными, а запретный плод, известно издавна, особенно сладок. Редактор требовал стихи о выполнении заводом пятилетнего плана. Он не понимал, что стихотворение Магнезина о корабле с николаевских стапелей и есть стихотворение о выполнении пятилетнего плана.
Бума начал тихо, явно смущаясь и волнуясь, – он впервые публично читал свои стихи, – но когда кто-то шепнул ему «читай погромче», он сказал: «А зачем погромче, они от этого лучше не станут». И сразу успокоился, перестал заглядывать в тетрадку, потом захлопнул ее и продолжал читать наизусть.Все уверенней звучал голос Бориса Магнезина в дружеской тишине. Он почувствовал, что вокруг сидят его товарищи. Я вижу кроткие глаза Миши Хазанова; сосредоточенный взгляд Саши Гринева, сидящего на одной табуретке с Жорой Ульяновым; братьев Цитоловских, большого Ефима и маленького Рувима; Толю Шкарупу в матросской тельняшке; притихшего, всезнающего Нолю Граната; светловолосую голову Вани Олейникова; Сашу Пирога с черным чубом до бровей; Васю Трофимова, подперевшего щеку кулаком; Олеся Руденко, что-то записывающего в блокнот...
Бума стоял на фоне окна, которое было рамой картины, вобравшей два зазеленевших тополя вместе с просветом синего апрельского неба, и читал стихи о весне, о ледоходе на Буге, о сосульке, превратившейся в слезу на щеке у матери, о своей умершей школьной учительнице, о знаменитом флотоводце вице-адмирале Макарове и не менее знаменитом художнике Верещагине, которых помнят улицы Николаева.Он читал без малейшего нажима, просто делился со мной, со своими друзьями тем, что с ним произошло, и тем, что его волновало.Недавно мой знакомый, совсем молодой человек, работающий в одном из московских издательств, собираясь провести отпуск на юге, сказал: «Я очень устал», и когда в ответ на это заявление я рассмеялся, он не понял, в чем дело. А я просто удивился и подумал: мы в его годы не знали, что это такое – усталость.
После работы, едва умывшись и наспех перекусив, мчались на рабфак, а по субботам еще и на занятия «Шкива». Мы были активистами городского клуба пионеров, членами комсомольского бюро, выпускали цеховые стенгазеты, участвовали в самодеятельных спектаклях, не говоря уже о том, что я увлекался футболом, играл в юношеской заводской команде, а Бума был одним из лучших гандболистов команды клуба пионеров. Мы были читателями городской библиотеки, мы прочитывали уйму книг, мимо нас не проходила поэтическая новинка, мы не пропускали литературные собрания николаевских литераторов, спектакли в городском театре и новые кинокартины, мы всерьез писали стихи, мы – что скрывать! – мечтали стать поэтами, и мы... влюблялись. Влюблялись, как нам каждый раз казалось, на всю жизнь, потому что не умели ничего делать вполсилы. Все или ничего – вот закон нашей юности!..
Бывало, мы с Бумкой провожаем девушек. Одна из них, Настя Семенова, жила в начале Потемкинской, почти у поворота улицы к яхт-клубу, другая – Валя Шуманская – на Набережной, крайней улице города, рядом с Ингулом.
Литкружок «Шкив» завода им. А. Марти. В центре за столиком – М. Лисянский. Николаев, 1931 г.
Иногда мы их провожали вместе, сначала шли на Адмиральскую, потом к Ингулу, а оттуда шагали по домам. Чаще – врозь. Простоишь до трех, до четырех часов ночи, то бишь утра. Светает, никаких трамваев. Летишь домой на своих двоих, счастливый, отважный, а через несколько часов – первый гудок.Случалось, примчишься домой – дверь родители не запирали, – тихонько проберешься к своей постели, а на часах чуть ли не шесть утра. Поворошишь постель – пусть думают, что ты спал, выпьешь поставленный на ночь стакан молока, захватишь с вечера приготовленный, завернутый в газету завтрак – и айда на завод.Мы сейчас часто говорим: не хватает времени. Хемингуэй писал: когда мы не женаты, у нас много времени для чтения книг. В те удивительные годы у нас хватало времени на все. Может быть, поэтому мы не замечали, как бугский ветерок листает наши дни, словно прочитанные страницы, и время летит и летит.
Я первым покидал Николаев. В кармане лежала путевка завода. Я уезжал учиться в Московский институт журналистики. Путевка путевкой, но предстояли экзамены, что меня весьма беспокоило: основательных знаний для поступления в институт было маловато. Все лето Бума меня натаскивал по предметам, которые следовало сдавать в Москве.Наступил прощальный час. На перроне стояли моя мать, отец, Настя Семенова – ее буквально силой притащил сюда Бума – и сам Бумка. Шли последние минуты моей николаевской жизни. Мы впервые заметили время: оно ударило в станционный колокол и замедлило свой бег. Минуты тянулись нескончаемо и тягостно.До второго звонка оставалось несколько минут. Отец посмотрел на часы, Настя смущенно улыбнулась, мама заплакала, а Бумка, утешая ее, сказал дрогнувшим голосом: «Тетя Еля, вы не беспокойтесь, он там один не будет, скоро и я поеду в Москву...».
В доказательство того, что мы вскоре будем вместе, он сдернул свою кепку, затем мою и уже более бодро произнес:– Тетя Еля, вы видите: мы меняемся кепками, а в Москве я ему верну его шляпундию, а он мне – мою.Раздался второй звонок. Я надел кепку, которая была мне маловата. Мама улыбнулась сквозь слезы. Поезд, громыхнув буферами, тяжело тронулся. Я вскочил на подножку и, стоя в дверях вагона, махал, махал, махал Бумкиной «шляпундией» матери, другу, отцу, Насте Семеновой, городу Николаеву...Это было мое первое расставание с Бумкой.
Он появился в Москве внезапно. Проучился год в Николаевском судостроительном техникуме и бросил его. Приехал Бумка глубокой осенью с томиками Гейне, Блока, Маяковского, Багрицкого, с общей тетрадью в темном клеенчатом переплете, наполовину заполненной стихами, с надеждой поступить на подготовительные курсы в медицинский институт.
В Москве начались заморозки, а он приехал в плаще, в моей летней кепке, зато в ботинках с новенькими сверкающими галошами и в шелковом полосатом кашне, узлом завязанном на шее.– Главное, – произнес он дядиным голосом, увидя мое пристальное внимание к плащу, – ноги и горло! – и поднял указательный палец выше головы. – Горло должно быть защищено от ветра, а ногам – сухо! Как видишь, в этом отношении у меня все в абсолютном порядке!..
Я подумал, что неплохо, если горлу и ногам еще и тепло, но вслух предложил:– Давай снова меняться кепками, получай свою шляпундию, она плотнее моей, да и мала мне!..Москва довольно холодно и неприветливо встретила моего друга. Подготовительные курсы еще не открылись, деньги, отпущенные дядей, быстро улетучивались, и Бума решил временно устраиваться на работу, причем на такую, которая не мешала готовиться в медицинский институт.Квартирный вопрос – пусть ненадежно – мы на первое время решили. Бума жил со мной в общежитии, в центре Москвы, на Мясницкой, 13, почти напротив почтамта, там и находился институт журналистики. Спали мы на одной кровати. Кроме меня в комнате жили еще три студента. Правда, каждый раз надо было обходить бдительность коменданта и дежурной, сидящей у входа в общежитие.
Дежурная любила поговорить на злободневные темы. Пока с ней толковали, Бума, смешавшись с проходящими студентами, проскальзывал за моей спиной. Он оставался ночевать, мои сокурсники не возражали, мы успели подружиться с ними, но после того, как Бумку однажды утром обнаружили в моей постели, стало труднее проникать на второй этаж в нашу комнату.
Я заметил, что Бума, обычно не унывающий, стал менее рассеян и более задумчив. Он боялся, что у меня будут неприятности из-за него. Неожиданно он исчез и несколько дней не появлялся. Я не находил себе места, выходил по вечерам по нескольку раз на Мясницкую, торчал у ворот до двенадцати ночи, но все понапрасну.Выхожу после лекций в коридор, смотрю: мой Бумка стоит у окна и улыбается, как ни в чем не бывало. Не успел я обрушиться на него, как он заявил: «Не беспокойся, у меня все в абсолютном порядке, я устроился на работу в одном учреждении, при нем роскошная столовая, а ночую у нового знакомого, служащего этого учреждения...».
Когда он говорил, что у него все в порядке, я еще верил, но когда я слышал «у меня все в абсолютном порядке», то я понимал, что о порядке не может быть и речи. Проходило два-три дня, и Бумка возникал то в институте, то в общежитии. Я настаивал – и он оставался ночевать, потом снова исчезал. Показалось странным, что он никогда не говорил о своей работе, более того, лишь я пытался о ней заговорить, старательно переходил на другую тему.
Появился как-то он в перерыве между лекциями, потрясая письмами:– Я был только что на почтамте, получил сразу два письма – от Вали Шуманской и от дяди!..Еще накануне я решил пойти за Бумкой, проследить, в каком учреждении он работает: Мы распрощались, я сделал вид, что направился в аудиторию на очередную лекцию, а сам вслед за ним вышел из института.Он шел по одной стороне Мясницкой, я – по другой.
В мартовской Москве было еще прохладно, хотя весна чувствовалась и в потемневших сугробах, и в том особом ветерке, пахнущем талым снегом и арбузной свежестью, и в какой-то раскованности и распахнутости легко шагающих людей, и прежде всего – в Бумке. Он двигался в потоке москвичей, неустроенный, непрописанный, в своем плаще, из кармана которого торчала шляпундия, необычный, элегантный, с поднятой непокрытой головой, мечтательный, не обращая внимания на встречных. Губы его шевелились, иногда он приподнимал в знакомом жесте руку. Я понимал, что Бума бормочет стихи. Таким я его не раз видел на николаевских улицах.
Он свернул в переулок, вышел к Сретенскому бульвару, пересек его и открыл дверь, из которой вырвалось облако пара. Рядом с дверью я прочел: «Столовая». Дом был многоэтажный, столовая находилась в полуподвале дома. Все правильно: вверху, видимо, учреждение, внизу – столовая.Прошло полчаса, прошло сорок минут. Бума из столовой не выходил. Я решил отыскать его где-нибудь за столиком.
Открыл дверь и увидел в глубине полутемного коридора Бумку за деревянным барьером на фоне вешалок с пальто и шапками. Он взял у мужчины номерок и вручил ему шапку и пальто.Я подошел ближе. Бума выдал очередное пальто и меня не заметил. На барьере лежала раскрытая толстенная книга, как видно, учебник, и рядом – знакомая тетрадь в темном клеенчатом переплете.
Бумка всех обманывал, делал он это бескорыстно, весело, совершенно не придавая значения своим невзгодам. Он никому не хотел быть в тягость. Я получил из Николаева от его дяди письмо, в котором тот спрашивал, в каком именно учреждении устроился Бума, сколько получает в месяц, где живет.
Что я мог ответить? Написать, что вчера Бумка с нашим общим другом Абадей Лавутом, приехавшим из Николаева, чтобы испытать свое счастье в театре, всю ночь шагал туда и обратно – от МХАТа до села Алексеевского, чтобы скоротать время?Написать, что он ночует у меня в общежитии, а иногда в лифте, благо лифты в ту пору в Москве, как правило, не действовали? Сообщить дяде, что Бума работает гардеробщиком в столовой, где он бесплатно питается, получает кое-какие деньги и имеет возможность готовиться в институт и даже писать стихи?
Лично я не видел ничего зазорного в том, что мой друг выдает и принимает пальто, лишь бы он готовился в институт. Но вряд ли это соображение обрадовало бы дядюшку, который был против поездки в Москву.
Я показал Бумке дядино письмо, и он, подняв уголком одну бровь, изобразил полнейшее удивление:– Я же ему написал все как есть!.. Странно, что он мне не верит! Я даже написал, что денег мне хватает...– То, что ты дядю, родного и единственного, обманываешь, это я могу понять! – перебил я Бумку. – Но меня, меня зачем ты так нахально и нагло обманываешь?– Я тебя обманываю?! – закричал Бумка нарочито бодрым голосом, и черные полоски бровей изумленно полезли вверх. – Это исключено!..Он подскочил ко мне, обнял сзади крепкими руками и поднял высоко, так что кепка полетела с головы.– Шляпундия упала! – завопил он озорно. – Это хорошая примета!
Все наши прежние привязанности и увлечения остались в силе. Мы посещали литературные вечера, мы всякими правдами и неправдами, возглавляемые Абадей Лавутом, проникали на театральные премьеры и генеральные репетиции. Мы не пропустили ни одного значительного вечера в Политехническом музее.На вечер Осипа Мандельштама в Политехническом наша тройка пришла за двадцать минут до начала, а билеты были распроданы за неделю до его выступления. Мы подошли к окошечку администратора, и Абадя Лавут молча положил перед ним раскрытый паспорт.– Причем здесь паспорт?! – закричал администратор. – У меня нет ни одного билета, а вас трое... Заберите свой паспорт!
Политехнический музей в Москве. В его актовом зале проходили яркие литературные вечера
– Нет, вы все-таки взгляните на этот документ! – закричали мы хором.Администратор, прославленный Маяковским, – это был Павел Ильич Лавут – взглянул и улыбнулся. Он прочел в паспорте свою фамилию, развел руками и дал нам одну контрамарку на троих.Когда мы пробрались в зал, вечер уже начался. Кто-то, возвышаясь над небольшим столиком, произносил вступительное слово. Осип Мандельштам сидел сбоку, положив ногу на ногу, искоса поглядывал на говорящего и напряженно вслушивался в каждое слово. На бледном продолговатом лице поэта выделялся острый нос с горбинкой да темнела под нижней губой коротенькая остроконечная бородка. Я тогда не знал, что такая бородка называется эспаньолкой.
Произносящий вступительное слово (помнится, это был Борис Михайлович Эйхенбаум) говорил короткими, стреляющими фразами. Мелькали имена Блока, Гумилева, Есенина, Маяковского. Я все ждал, когда же оратор дойдет до Мандельштама, выступления которого с нетерпением ожидал переполненный зал.Добравшись наконец до Мандельштама, Эйхенбаум начал его стихи сравнивать со стихами Маяковского. И вдруг Мандельштам, не меняя позы, выкрикнул в зал:– Маяковский – точильный камень русской поэзии!..Поэтов не надо сравнивать!..Осип Мандельштам показался совсем маленьким, но когда он встал рядом со столиком, выставив правое плечо, весь вспетушился и резким, задиристым голосом прокричал первую строчку, он сразу поднялся, вырос над притихшей аудиторией:
Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.
Оно легко и грубо:
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.
Мы не заметили, как промелькнуло время. Неожиданно поэт умолк. В ответ на аплодисменты едва поклонился и быстро-быстро ушел со сцены. Через несколько секунд он открыл дверь, в которую только что вышел, высунул свою сервантесовскую бородку и категорически заявил:– Перерыв!Второе отделение Мандельштам начал более спокойно. На сцену вышел неторопливо, будто в глубоком раздумье. Встал слева возле столика, расправил плечи, весь подтянулся, у него появилась даже военная выправка. Он читал медленно и четко, чеканя каждую строку, читал стихотворение за стихотворением, не называя заглавий, не отделяя одно от другого, то подчеркивая ребром ладони ритм, то возвышая музыку стиха, то снижая голос до шепота, совершенно не заботясь о производимом эффекте.
Мы вышли из Политехнического последними и замешкались у входа, делясь первыми впечатлениями. И тут же вышел Мандельштам в сопровождении нескольких человек. Поэт остановился, окинул взглядом звездное небо, облегченно вздохнул и сказал не то окружающим, не то себе:– Вселенная не спит.Мы тоже посмотрели на небо, потом – вслед уходящему Мандельштаму и, не сговариваясь, будто так и должно быть, направились к Садовой-Триумфальной.В такое время попасть в мое общежитие, да еще втроем, нечего было и думать. Бума и Абадя хорошо освоили маршрут: от Дворца Авиахима, теперешнего Дворца имени Чкалова – там они занимались в театральной студии Николая Сергеевича Плотникова – до села Алексеевского, где находился студенческий городок многих московских институтов, в том числе ИФЛИ – Института истории, философии и литературы. В одном из общежитий городка жила наша николаевская девушка, Тамара Бекова, невеста Абади Лавута, студентка ИФЛИ.
По обыкновению Бума и Абадя навещали Тамару, потом якобы уезжали в Москву: по их словам, у них было где ночевать, а на самом деле они шагали от двора до села и обратно до тех пор, пока не начиналось утро.На этот раз я разделял со своими друзьями дорогу, уходящую в ночь. Мы говорили, говорили, говорили и не замечали времени. У нас было о чем вспоминать, но мы тогда редко занимались воспоминаниями. Мы жили насущным днем, в котором тесно переплелось наше вчерашнее и завтрашнее, хотя оно и состояло из хрупких надежд. Мы находились под впечатлением только что окончившегося вечера Осипа Мандельштама. Сменяя друг друга, читали вдогонку уходящему времени стихи. Мы обошли темнеющую громаду Сухаревской башни, дошли по Первой Мещанской до Крестовских башен, а там потянулось Ярославское шоссе. С двух сторон нас сопровождали деревья, погруженные в ночную тишину. Бума читал значительно медленнее, чем Мандельштам, и нам был отчетливо слышен:
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...
Я рассказывал о моей недавней встрече с Эдуардом Георгиевичем Багрицким, и мы читали его стихи. Не успел я закончить «Птицелова», как Бума начал «Происхождение»:
Я не запомнил, на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся...
Багрицкий был нам особенно близок и дорог, он был нашим поэтом, его стихи возвращали юность, море, Одессу, Николаев, все то, что нас вспоило и вскормило. Багрицкий принимал участие в моей жизни, он даже интересовался делами моих николаевских друзей, оказавшихся в Москве. По его записке Бума устроился в железнодорожном клубе и некоторое время работал там массовиком. А вот показать свои стихи Эдуарду Георгиевичу Бума не хотел, все откладывал. То говорил: «Я еще подожду», то усмехался: «У него хватает молодых и без меня», а сейчас в ответ на мои уговоры, не без ехидства, сдобренного улыбкой, заявил: «Багрицкому достаточно одного представителя города Николаева!».
Во втором часу ночи мы дошли до Алексеевского. Студенческий городок спал, лишь кое-где светились окна общежитий. Тамарино окно было темным, и мы повернули назад, в обратный путь. Абадя Лавут начал рассказывать о последнем дне занятий студии Плотникова, назвал ее настоящей школой, восторгался Николаем Сергеевичем, принявшим в студию группу николаевских тюзовцев.
Мальчишки, мы сразу выделили безвестного Плотникова, ныне прославленного артиста вахтанговского театра, народного артиста Советского Союза, как только увидели его на сцене николаевского театра. Особенно нас покорил он в роли Швейка. В городе гастролировала 4-я студия МХАТа, и мы, поклонники Плотникова, смотрели спектакли по нескольку раз, а в спектакле «Похождения бравого солдата Швейка» знали каждую реплику. Иногда мы встречали молодого бритоголового Плотникова, гуляющего по городу, но не смели с ним заговорить.
– Подхожу я к газетному киоску, – рассказывает нам Абадя, – на углу Соборной и Потемкинской и покупаю газету «Советское искусство»... Стою с газетой как вкопанный, подыскиваю слова, чтобы обратиться к живому Швейку, как вдруг он кладет руку на мое плечо и говорит: «Ты что же, мальчик, интересуешься искусством? А кем ты хочешь стать, писателем или артистом?». Вы же понимаете, – добавляет Абадя, – тут уж я за словом в карман не полез.
И тогда Плотников, к моей радости, скомандовал: «А ну, веди меня в свой театр!..».Мы продолжали наш поход по пустынной спящей Москве. До утра оставалось несколько часов. Снова позади оказалась Сухаревская башня, мы повернули опять на Мещанскую. Абадя провозгласил: «Ночь идет на убыль. Пора читать свои собственные сочинения, товарищи поэты!», и Бумка буркнул: «Пусть он прочтет то, что понравилось Багрицкому». Я начал: «Опять снега за окном, глубокие опять», а потом Бума прочел свое стихотворение «Рассеянность».
Я запомнил навсегда это стихотворение, потому что оно было похоже на Бумку, потому что в этом стихотворении жила Бумкина улыбка и его любовь:Рассеянность, кроме вреда,Ничего не приносит в дар, –
Мне дядя твердил на прощанье,
И я ему дал обещанье
Завет его помнить всегда.
И что ж! Это было вчера,
А нынче я вышел из правил:
Перчатку свою потерял
И сердце на даче оставил.
Я увидел Бумкиного дядю с поднятым выше головы указательным пальцем и явственно услышал:Рассеянность, кроме вреда,Ничего не приносит в дар...Над Москвой начинался рассвет.Плотников пригласил на премьеру Реалистического театра. По роману Максима Горького Николай Охлопков поставил спектакль, о котором говорила вся театральная Москва. Мы очень гордились дружбой с Плотниковым. Шеф николаевских юных актеров встретил нас в Москве как старых знакомых, даже помнил наши имена.
Реалистический театр, созданный Охлопковым, наряду с мейерхольдовским считался наиболее современным, наиболее модным, вроде сегодняшнего любимовского Театра на Таганке. Реалистический находился возле нынешней площади Маяковского, в здании, где позднее обосновался образцовский кукольный театр. Николай Плотников был тогда актером Реалистического театра, а мы себя считали его учениками.
Мы – Абадя, Борис и я – вошли в зрительный зал, зал без при вычной сцены с бархатным занавесом. Где-то в середине возвышались подмостки, что-то вроде сцены, ее обступали со всех сторон ряды стульев. Никакого занавеса. Подмостки и стулья. Свет погас. Начался спектакль.Актеры выходили из рядов, где сидели зрители, запросто поднимались со стульев, начинали говорить, еще не дойдя до сцены. Создавалось полное впечатление, что мы участники спектакля и каждый из сидящих в зрительном зале может подняться и вмешаться в то, что происходит на сцене. Ниловну играла Мельникова, Павла – Абрикосов, Андрея Находку – Плотников. Для нас троих самым главным в спектакле был Плотников. Шутка сказать, мы не только давнишние поклонники, не только ученики, мы гости самого Плотникова! Нам думалось, и Николай Сергеевич чувствует, что в зале его николаевские друзья.
Он играл с такой предельной простотой, на таком обнаженном нерве, что мы забыли не только о необычном театральном зале, мы забыли о собственных тревогах и неудачах. Мы жили бедами и заботами Ниловны, Павла, Андрея Находки.Мы совсем забыли о своих огорчениях. Мою первую книжку стихов отвергли в издательстве, Абадю Лавута не приняли в театр, о котором он мечтал, хотя он прошел все три тура конкурсных испытаний. Бума уже не работал в столовой, он учился на подготовительных курсах при медицинском институте, а спал по-прежнему где попало.
Я питался кое-как в моей студенческой столовой, а Бума и Абадя жили впроголодь. Но, боже мой, разве тогда мы думали о том, что мы скверно одеты, плохо едим, мы просто этому не придавали значения. В тот день мы даже забыли, что ничего не ели. Сошлись в полдень, бродили по улицам, делились друг с другом не только своими новостями, но и новостями всего человечества, получали контрамарки, а там и вечер наступил.
Неожиданно вспыхнул свет. Окончился первый акт. Наша тройка вышла в фойе, где нас поджидало великое искушение. На многочисленных столиках стояли блюда с пирожными. Одни пирожные. Круглые, квадратные, прямоугольные, миндальные, песочные, бисквитные, заварные, пирожные в кремовых вензелях, шоколадных завитках, жемчужных узорах. Они источали головокружительный аромат, заставляя наши пустые, наши бедные желудки содрогаться.
Мы не ели пирожных с николаевских времен, мы как-то не обращали в Москве на них внимания, мы забыли, как они выглядят. А тут они перед нами лежат, их можно есть, а потом позвать официантку, которая сейчас хлопочет за дальним столиком, и расплатиться. Мы впервые видели такое. У нас в Николаеве сначала платят за пирожное, а затем его получают.
Я посмотрел на Бумку и ужаснулся. Он побледнел, его чудесный высокий лоб повлажнел, ноздри яростно раздувались. Он проглотил слюну и почувствовал: судорога пронзила его горло. В каком-то странном забытьи я сел за крайний столик – его освободила веселая компания – и глазами велел сесть Бумке и Абаде.На блюде осталось пять пирожных. У нас не было денег и на одно. Прозвенел второй звонок. Абадя, не выдержав испытания, ушел в зал, а мы как завороженные остались сидеть за столиком, не смея прикоснуться к пирожным.
Прозвенел третий, прозвенел последний звонок. Пирожные лежали нетронутые и невыносимым шепотом твердили: мы свежие, мы сладкие, мы очень вкусные...Я схватил блюдо с пирожными и быстро вошел в зал как раз в то мгновение, когда погасили свет. На наше счастье, сбоку, у самого входа, оказались свободными несколько стульев. Бумка сел рядом со мной. Бешено колотились наши сердца. Я уже не различал, где мое стучит, а где его.
Начался второй акт. Мы не притрагивались к пирожным. Блюдо лежало между нами, одним краем у Бумкиного бедра, другим краем упиралось в мое бедро.Мы снова следили за спектаклем. На сцене Ниловна, Павел и Андрей. Из тюрьмы вернулся Павел. Ниловна встречает Павла, как только может мать встречать сына. Они гордятся друг другом, хотя об этом ничего не говорят, они стесняются своих чувств. Без малейшей выспренности, взволнованно и возвышенно идет сцена встречи сына и матери. А. Плотников медленно отходит в сторону, на самый край подмостков, и, стоя почти спиной к нам, произносит в напряженной тишине глухим голосом: «Где-нибудь есть у меня мать...».
И в эту минуту раздался грохот. Блюдо с пирожными рухнуло на пол. Мы замерли, вросли в стулья, мы окаменели. Андрей Находка, будто ничего не произошло, подошел к Ниловне и заглянул ей в глаза.Спектакль продолжался.Нашу дружбу ожидало второе расставание. Мы учились, работали, мечтали, но строили свои воздушные замки не на песке – на земле. Абадя Лавут стал актером Центрального театра юного зрителя, Бума учился во Втором медицинском институте, а я после Института журналистики собирался в дорогу. Меня посылали на работу в харьковскую комсомольскую газету.Абадя был с театром на гастролях, когда я прощался с Москвой, с Багрицким, с Бумой Магнезиным.
Прощание с Эдуардом Георгиевичем было грустным и недолгим. Лифт в доме, где жил больной Багрицкий, не работал. Я мгновенно сбежал с шестого этажа. Внизу, в подъезде, меня поджидал Бума с моим чемоданом.На Курский мы приехали за полтора часа до отхода поезда. В буфете купили бутылочку вина, разлили по стаканам, чокнулись «на посошок». Взамен тоста я сказал: «А в походной сумке спички и табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак», хотя вместо походной сумки у моих ног стоял небольшой фанерный чемодан, где не было табака и спичек, поскольку я не курил, но были книжки всех трех поэтов, в том числе и томик автора прозвучавших строк. Бума в ответ произнес:
«Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
золотого, как небо, аи»
– и сморщился: наше вино оказалось отнюдь не золотым, а мутным, теплым, приторно-сладким...Потом он сказал: «Встретимся в одиннадцатом вагоне, согласно купленному билету», – и быстро зашагал к выходу на перрон. Я ничего не понимал, схватил чемодан, крикнул «подожди», побежал вслед за ним, но он смешался с толпой и скрылся.
Я вышел на перрон, где уже сосредоточились большими группами пассажиры для атаки харьковского поезда, стараясь угадать место своего вагона. Я ходил от группы к группе, выискивая Буму. Особенно толпились люди в конце перрона. Оказалось, что это пассажиры с билетами в мой, одиннадцатый, вагон. Как видно, Бумка хочет первым ворваться в вагон и занять полку, но здесь его тоже не было.Наконец подали состав, и люди с чемоданами, кульками, мешками, ящиками бросились к вагонам. Одиннадцатый оказался подальше от того места, где я ожидал. Я почти последним вошел в вагон и стал пробираться среди занятых полок.
В середине вагона меня окликнул Бумка. Он лежал на полке и победоносно улыбался.Где-то на запасном пути Бумка отыскал харьковский поезд, очаровал проводницу одиннадцатого вагона и занял мне полку.Он бежал рядом с вагоном, что-то крича, и ветер трепал мягкие пшеничные волосы, а он все бежал, отставая от поезда, и все махал своей странной николаевской «шляпундией».
Незадолго до того, как Бума окончил медицинский институт, мы свиделись в городе Ярославле. После действительной службы я остался там жить и работать. Я полюбил этот город с древнерусским обликом, великолепные храмы, на стенах которых любовался живописными видениями библейских и евангельских легенд, я не мог насмотреться на один из самых красивых монастырей России – Спасский монастырь, где у крепостной башни не раз стоял на солдатском посту.
Я полюбил волжскую набережную, с ее беседками, липами, чугунной решеткой; обрывистый мыс у слияния Волги и Которосли, откуда открывается могучий простор и звучит песенная душа великой реки; театр имени Федора Волкова, бульвар; с его столетними липами. Под их сенью я шагал на работу, и в театр, и на Волгу.За год службы я успел подружиться с местными краеведами, журналистами, актерами, стал печататься в ярославских газетах. Кроме того, город имел свое издательство, отделение Союза писателей. Сразу же я начал работать в комсомольской областной газете. Ко мне приехала из Николаева жена с крохотной дочкой. Словом, я солидно обосновался на ярославской земле.
И тут случилась беда, страшная беда с моей женой. Она попала под трамвай. С места катастрофы ее увезли в больницу. Жене ампутировали ногу. Земля покачнулась подо мной. Дни и ночи слились в одно жгучее темное месиво, не имеющее границ. Оно кружилось вокруг меня, гремя и трезвоня трамвайными звонками, и не было этому кружению конца.Открывались и закрывались двери, входили и выходили соседи, друзья знакомые. Я никого не различал, их слова доносились из туманного далека. Открылась дверь, кто-то вошел, сел рядом со мной на диване, молча обнял за плечи, и мне сделалось, как бывало в детстве, очень жалко себя, и стало трудно дышать, и я в первый раз за эти дни заплакал.Бума не отходил от меня целую неделю.
По утрам мы отводили дочку в детский сад, приносили из столовой резинокомбината обеды, подогревали их, вместе ездили в больницу с передачами, разговаривали с врачами, вместе писали записки жене, вместе пошли на почтамт и отправили телеграмму в Москву, в институт, потому что Бума, получив от моего ярославского друга сообщение о случившемся, никого не предупредив, уехал ночным поездом.Из Ярославля он уезжал тоже ночью, костромским поездом. Мы уложили дочку спать, а сами пошли пешком через весь город на вокзал. Бума был рядом, и поэтому казалось, мы идем по Николаеву, в наше милое и невозвратимое детство.Это было наше третье расставание.
На войну Буму провожала совсем молоденькая жена, только окончившая педагогический техникум. Он ее называл Линой, на самом деле ее звали Лизой. На руках у Лины была их одиннадцатимесячная дочка Лариса. Его единственная открытка со штемпелем полевой почты еще застала меня в Ярославле. Только одна строка этой открытки осталась в памяти: «Еду по направлению к Смоленскому фронту».
Если к строке из фронтовой открытки прибавить два коротеньких юношеских стихотворения, которые я запомнил: первое – «Надпись на пепельнице», подаренное Лине Проценко, и второе – «Рассеянность», где Бума «перчатку свою потерял и сердце на даче оставил», то это и будет все уцелевшее литературное наследие Бориса Магнезина.
Лина положила в солдатский вещевой мешок чистые почтовые открытки – одну из них я получил, – мыло, зубной порошок, круг колбасы, две буханки хлеба, консервы. Бума вынул буханку, консервы и положил в мешок томики Гейне, Блока, Маяковского, Багрицкого и тетрадь в темном клеенчатом переплете, почти всю заполненную стихами.
Я не знаю, на каком поле боя он упал вместе со своей походной сумкой, в каком разбомбленном блиндаже или избе, оборудованной под полевой госпиталь, остался Бумкин солдатский мешок. Я не знаю, в каком огне превратилась в пепел его поэтическая тетрадь, которая, несомненно, стала бы первой книгой Бориса Магнезина. Лине принес почтальон извещение: «Пропал без вести».
У Ларисы родился сын, его назвали Борисом, я его называю Бумой. В конце войны под Кенигсбергом я получил письмо из Николаева от Бумкиного дяди. Он писал: «Жизнь ко мне несправедлива. Я потерял на войне и Буму и Мару, но самая большая несправедливость еще меня ждет: я буду долго жить, а без Бумы и Мары мне жить ни к чему».
Дядя оказался прав. Он умер не так давно, прожив без нескольких месяцев девяносто лет. Никто не собирался умирать. Мы тоже не собирались умирать. Мы в ту пору как раз собирались жить. И мы ничего не копили, ничего не хранили, ничего не сберегли, даже молодости. Где уж там заботиться о своем архиве!.. Может быть, высший смысл Буминой жизни в том, что рядом с ним на поле брани были его любимые поэты и тетрадь собственных сочинений.Он достиг всего, о чем мечтал. Был судостроителем, стал врачом и всегда был поэтом. Более того, он погиб солдатом. Он прошел по земле, как и положено поэту, молодым, красивым, бескорыстным, влюбленным в жизнь, ни разу не омрачив нашего братства. Мне осталась в награду от жизни прекрасная дружба, о которой я вам, как умел, рассказал.Бума сделал бы это гораздо лучше.
1971
* * *
Первая зарубка
Поздним майским вечером, часу в двенадцатом, в дверь комнаты николаевской гостиницы, где я обосновался в этот приезд, негромко постучали.Я приехал в Николаев на празднование 40-летия со дня основания заводского литературного кружка «Стапель», бывшего «Шкива», того самого литературного кружка, в котором я когда-то был ответственным секретарем. Номер в гостинице сняли товарищи с Черноморского завода, и я, несмотря на протесты сестры, особенно ее мужа, Володи Островского, желавших, чтобы я, как обычно, остановился у них, поселился в гостинице.
Двери моего номера не закрывались. Приходили заводские друзья, приходили друзья с улицы Сенной, школьные товарищи, знакомые журналисты, молодые и немолодые поэты, трижды забегал бывший шкивовец, дальневосточный моряк, товарищ моей юности Ваня Олейников, специально прибывший на это торжество, приходили украинские поэты, приехавшие из Киева чествовать молодых литераторов, несколько раз была сестра со своим сыном Мишей и, конечно, Володя Островский, который по обыкновению в дни моих приездов в Николаев берет отпуск и сопровождает меня во всех многочисленных походах по адресам моего детства...
Вот почему, услыхав в такой поздний час робкий стук в дверь, я совсем не удивился и крикнул, не вставая из-за стола: «Входите, пожалуйста!».Дверь приоткрылась. В комнату вошла невысокая женщина с белой, совершенно белой, по-мальчишески коротко подстриженной седой головой. Следом за ней – широкоплечий коренастый мужчина. Нерешительно сделав первый шаг, они остановились. Я уже шел им навстречу, когда женщина, явно смущенная, даже растерянная, проговорила нараспев глуховатым голосом:
– Ну вот, добрый вечер... Не знаю уж, как нам – на «вы» или на «ты»?..– Непременно на «вы», только на «вы»... – пошутил я. – Добрый вечер, Фаня! Добрый вечер, Фаня Житникова!– Боже мой! Боже мой! – повторяла она, покачивая белой головой. – Неужели меня можно узнать, неужели ты меня узнал?– Почему бы тебя не узнать? – говорил я, – прошло каких-нибудь сорок лет, точнее, сорок два года!..На самом деле мне показалось чудом и появление Фани Житниковой, и то, что я ее сразу же узнал.Мы учились в одной школе, но в разных классах: я – в шестом, Фаня – в пятом.
В ту пору мне нравилось несколько девочек в нашем классе: и Муся Карташова, и Люба Гершгорина, и Рая Розина, и Ида Ганкина. Я все время колебался, кому из них отдать предпочтение. Мои вкусы, мои идеалы быстро менялись. Еще вчера я старался отличиться перед Мусей, а сегодня у меня из головы не выходила Люба. Но вот на школьной перемене я заметил девочку: тоненькую, круглолицую, с ямочкой на подбородке. Аккуратно одетая, в ослепительно белой кофточке, ладная, какая-то очень спокойная, она стояла в стороне, одна среди крика и смеха мчащихся в разных направлениях мальчишек и девчонок.
Мне все в ней казалось необычным: и слегка надменный, прищуренный близорукий взгляд серых глаз из-под длинных темных ресниц, и мальчишеская прическа пшеничных волос, и маленькая ямочка на подбородке, и даже чуть-чуть сутулые плечи...
В тот же день я узнал, что в пятом классе появилась новая ученица – Фаня Житникова. На второй день ей была послана первая записка, а еще через несколько дней я пытался увязаться за Фаней, хотел ее проводить домой, но мне в этом было категорически отказано под тем предлогом, что живет она рядом.Она действительно жила неподалеку от школы, не то на Рыбной, не то на Сенной улице. Но дело было совсем не в этом. Фане, как видно, нравился другой мальчик, а может, ей никто не нравился. Я писал записки, старался попасть на глаза моей избраннице, только о ней и думал. Мое чувство не находило отклика, а я был уверен, что мне нужна дружба именно этой девочки. Именно с ней хотелось рядом постоять, склониться над одной книжкой, вместе поехать в яхт-клуб. Я мечтал ее встретить случайно где-то в городе, шагать с ней по улице, защищать ее от всех обид и тревог.
Прежние привязанности как-то легче проходили. Я быстро утешался и переносил свое внимание на другую девочку, иногда в пику вчерашнему кумиру. А тут что-то оказалось сильнее меня, и крепко держало в плену чуть ли не год, и осталось первой зарубкой на мальчишеском сердце.Может быть, поэтому, а вернее, только поэтому, когда я после сорокадвухлетней разлуки увидел Фаню Житникову, то в первое же мгновение узнал ту самую девочку с ямочкой на подборке, хотя время тщательно побелило ей голову.
Сколько судеб переплетаются, сколько путей пересекаются, сколько людей вмещает каждая жизнь! Людские дороги расходятся, иногда снова сходятся, чаще – никогда, несмотря на то что мы любим повторять: гора с горой не сходится... Есть люди, которые исчезают, не оставляя в нашей душе следа. Случается, встречаешь человека и не узнаешь его. Десять, двадцать, тридцать лет назад вы были знакомы, а ты его не помнишь. И тут виновата не только память, как бы это для кого-то обидно ни звучало!...
Мы сидели за треугольным в разноцветную клетку столиком в маленьком номере гостиницы. Появилась бутылка вина и три стакана. Мы выпили за нашу встречу. Муж Фани, у которой теперь другая фамилия, сидел молча, не вмешиваясь в наш разговор, а мы вспоминали. Вспоминали не наше детство, не нашу Тридцатую школу на Рыбной улице, а годы, отделяющие школу от сегодняшнего вечера. И я понял, что не время ударило стойким морозом по этим мягким пшеничным волосам.
Пять недель ехала Фаня Житникова с тремя детьми от Николаева к Сталинграду в товарном поезде на открытой платформе, груженной железными листами. Ей двадцать шесть лет, муж – на фронте, в Николаеве – немцы. У нее на руках дочка Стелла, родившаяся месяц назад, рядом два сына: Грише – один год девять месяцев, Володе – четыре года. Поезд то внезапно останавливался и стоял часами, то так же внезапно продолжал путь.
Ночью под Ростовом на маленькой станции она решила раздобыть воды для ребят. Вернулась– а поезда нет.Так Фаня начала седеть. Всю ночь она на другом товарняке догоняла свой безымянный поезд, на платформе которого остались ее дети. А товарные составы так похожи один на другой! Паровоз, вагоны, цистерны, две-три открытые платформы...
Она бегает от платформы к платформе: нет ее детей. Это был не ее поезд.Утром в сорока километрах от Сталинграда, у городка Дубовка, она догнала тот самый поезд и только тогда заплакала. На платформе на железных листах она увидела своих детей. Стелла, завернутая в одеяло, затянутое солдатским ремнем, спала, а Гриша и Володя сидели, прижавшись друг к другу, зареванные, и бессильно скулили, как брошенные собачонки...
Фаня стала санитаркой в госпитале. Дети часто болели, и она металась между госпиталем, где днем и ночью надо было ухаживать за ранеными, и своими детьми. Потом она поселилась в деревне Новосергеевка. Работала в колхозе, не искала легкого заработка. Работала и на сеялке, и на веялке, пахала на быках. Приходила, не чувствуя ни рук, ни ног, со стоном разгибала поясницу. Здесь ее ждали дети, ждали варка, стирка, уборка.
Ей часто снилась та жуткая ночь, когда она потеряла своих детей. Но эта ночь оказалась не самой страшной в ее жизни.Война приблизилась к Сталинграду. И снова Фаня Житникова с детьми – в переполненной людьми теплушке, продуваемой со всех сторон декабрьским ветром. У девочки – двустороннее воспаление легких, а тут еще заболел Гриша. Корь. Мальчику нужно тепло, а попробуй раздобыть тепло в холодном вагоне. Она видела, как сыпь застывает на тельце ребенка, и ничем не могла ему помочь.Гриша умер на ее руках. Всю ночь и весь день до новой ночи Фаня провела в тамбуре с мертвым сыном. На станции Кинели, под Куйбышевом, у нее забрали из окаменевших рук Гришу и взамен выдали справку о том, что он умер от кори...
Я смотрел на Фаню и видел прежнюю девочку из пятого класса. Есть люди, очень похожие на себя в детстве. Смотришь на такого человека и представляешь его мальчишкой или девчонкой. Фаня не постарела. Девичья фигура. Тот же прищуренный, близорукий взгляд серых глаз из-под темных ресниц, чуть-чуть сутулые плечи, та же милая ямочка на подборке, та же мальчишеская прическа, но белые, белые, совершенно белые волосы.Время пыталось, но не сумело стереть ее черты. Впрочем, наверное, главное не в том, а в том, что, оказывается, и в мальчишеском возрасте случается с нами нечто такое, что сильнее времени.
Мы расставались глубокой теплой ночью. Николаев сладко спал, широко раскинув свои потемневшие улицы, дыша майским молодым ветерком, пахнущим речной солоноватой водой и белой акацией. Последний трамвай, подобрав нескольких прохожих, прогрохотал и затих вдалеке. Мы шли по хорошо знакомой нам Херсонской улице, ныне Проспекту Ленина. Если идти дальше по этому проспекту, потом свернуть на параллельную улицу, можно дойти до перекрестка Рыбной и Садовой, где стоит наша школа.Я впервые провожал домой Фаню Житникову.
1970
продолжение следует...