

Давид Яковлевич Айзман
(1869-1922)

Домой
Когда Азриэль объявил, что снова покидает Америку и уезжает на родину, в свой Ново-Николаевск, все знакомые напали на него, как на безумного. Кто в гневе кричал и бранился, кто весело издевался и гоготал.
– На родину?.. Но ты взбесился?.. Дубина ты, на родину?!
Азриэль отмалчивался.
Он был малый простоватый, мысли рождались у него медленно, слова приходили лениво и с трудом, а когда уже и приходили, то оказывались как будто не совсем теми, которые нужны... Переспорить кого-нибудь он не надеялся и оправдаться не был бы в силах. Он поэтому молчал.
– Ты же сумасшедший, – с негодованием кричали ему. – На родину, туда, где тебя разорили, где убили твоего дядю, где сестру твою сослали на край Сибири, а брата дважды ранили! Там каждый день могут убить и тебя, и всю твою семью!
У Азриэля была широкая спина, большие крепкие руки, тяжелая голова с густой огненной бородой и круглые выпуклые, синие как небо глаза. Он задумчиво вперял эти глаза вдаль, когда его бранили, и в них появлялось тогда выражение спокойного упрямства. Мозг его работал напряженно, но неуклюже и как бы спотыкаясь.
"Говори. Что хочешь, говори... Дядю убили, да... И сестру Соню сослали – Туруханский край называется это место... Брата Симона ранили – сперва на баррикаде в ногу, а потом, когда был в самообороне, в грудь... Раны, – пишет отец, – до сих пор не могут закрыться, от них свело левую ногу, и Симон стал хромым... Да, это верно... Ну так что же? Так поэтому и оставаться здесь, в этой Америке?"
Пускай кто хочет, тот и остается. Азриэлю здесь нет покоя ни днем, ни ночью... Вот твердят знакомые в один голос, что на родине скверно. И это таки правда, что скверно; ого, какая это святая правда!.. Грязное местечко Ново-Николаевск, маленькое, улиц нет, домишки ничтожные, темно, воют по ночам собаки, а урядник Афанасий Иванович, так он злее всех собак вместе... Да, очень нехорошо в Ново-Николаевске.
Азриэль старался вспомнить все самое неприглядное и мрачное о родине... Это удается ему без особенного труда... Но результат не меняется, и настроение остается все то же: тоска и тоска. Тоска и невольные грезы о родных местах... "Там Буг... Ведь Буг там!.. Зимой он замерзает. А летом в нем купаешься... Песок на берегу, а местами осока... Около винокурни песок, а где начинается лесочек, там осока... Когда базарный день, то во всем местечке большое оживление... Съедутся мужики, кто с молоком и яйцами, кто с пшеницей, кто поросят пригонит. Такой гармидер подымается, точно свадьба... Визжат поросята – черт знает, как громко они визжат!.. Овцы, например, – те ничего, те молчат. А поросята – поросята визжат, точно их режут. И гуси тоже гогочут... Народу пропасть, всех знаешь в лицо и по имени, и прошлое каждого знаешь, и виды на будущее... За церковной оградой – сад... Вообще – есть сады... Митингов нет – ого, задаст тебе Афанасий Иванович митинги! И театра нет, и газета не выходит, нет электрической железной дороги, – даже не знают люди, что бывает на свете такая дорога. Ну так пусть она и пропадает, эта электрическая дорога! Кому она нужна?.. С ее грохотом, с ее свистом, с ее быстротой, – пусть она пропадет пропадом".
Оттого, что ум у Азриэля неповоротливый, парень в детстве учился плоховато. В торговле он тоже не успевал. Ремесло давалось ему лучше. Здесь, в Америке, упорным трудом и скромной жизнью, граничившей с настоящей голодовкой, он сумел сколотить кое-какие сбережения. Сколотив их, он вернулся на родину и открыл мебельную лавку. Но случился погром, лавку разграбили, и Азриэль обнищал. Вторично поехал он в Нью-Йорк, вторично скопил здесь маленькую сумму, и, как и тогда, как и пять лет назад, снова стало его тянуть домой.
– Смеются надо мной? Ну что ж, пускай себе смеются.
И хоть не слишком проницательный был он человек, он видел все-таки ясно, что веселости в смехе этом немного. Смеются, а у самих кошки на душе скребут. Издеваются, а у самих печаль в сердце... И на него, Азриэля, сердятся потому, что своими грезами и постоянными разговорами о родине он только бередит незажившие, незаживающие раны... Что ж, с этими ранами надо обходиться осторожно. И не надо ничего больше говорить об отъезде. Надо молчать.
А в конце зимы, взяв из банка свои деньги, он сел на пароход и уехал в Россию.
Знал он, что и дома не одобрят этого поступка его, но на все махнул рукой. "Пусть попробуют сами, тогда и будут знать..."
Он приехал в тот большой город, в котором жил отец его, печник Калман.
Три года назад в октябрьские дни в городе этом произошел погром, один из самых кровопролитных. Калман, однако, не пострадал ничем. Ни один камень не влетел в окно его квартирки.
И когда из обширного погреба, куда набилось более ста спасающихся, и где в ежемгновенном ожидании лютой смерти протомились они двое суток, семья Калмана вернулась в свое жилище, – все стояло там на месте, как и раньше, и с таким невинным, будничным видом, как если бы вовсе не прошли здесь ужас и убийство. И старая кровать с красным кумачовым одеялом; и недавно по случаю приобретенный сосновый шкафчик с плохо закрывающейся дверцей; и все пять табуреток, и этот ряд симметрично развешенных фотографических карточек... Ничего, все смотрит просто и спокойно, почти приветливо, почти добродушно... И от этого тяжело сделалось Калману и жутко. Он не мог победить в себе смутного чувства радости, явившегося от сознания, что скарб уцелел, но радость эта страшна была ему и ненавистна, и мгновениями вспыхивало в нем желание взять эти подушки и собственными руками выпустить из них все перья, схватить это зеркало и изо всех сил треснуть им об пол...
Странно это было – но ему все казалось, будто воспользовался он какой-то непонятной и недоброй милостью врагов – тех, кто здесь поблизости разрушал и бил, и грабил, – и будто не рядом, не вместе с братьями стоит он теперь, а где-то в стороне от них, отдельно – и недалеко от громивших...
Вместе с женою своей Сурой он пошел в соседний двор.
Там все уже было убрано и подметено – слишком чисто подметено. Так старательно никогда не подметали в этом нищем, густонаселенном беднотою дворе. И тихо было здесь, и безлюдно. Черными провалами зияли разбитые оконные рамы – все до единой рамы были разбиты, – а когда к окнам подходили и в них заглядывали, то открывалась картина полного и свирепого разрушения.
Калман с женой остановились у ворот. Не хватало духа, не было сил пройти вперед... В этом доме подобрали одиннадцать убитых и около двадцати раненых. Крики ужаса, какие, может быть, услышишь только на войне, раздавались здесь всего два дня назад... Теперь все было тихо, безмолвно... Но это безмолвие давило душу, может быть, еще сильнее, чем самые страшные вопли... Калман стоял подавленный, понурый, часто мигал глазами, но слезы не текли из этих старческих глаз. Вся фигурка Калмана, маленькая, тщедушная, согбенная, даже когда смотрели на него сзади, говорила о тяжкой, о нечеловеческой скорби. Сура стояла подле мужа и держала его за руку... Она была сухая женщина, очень высокая и прямая, и темное лицо ее было сурово и сумрачно. Она ничего не говорила и только напряженно смотрела большими, черными глазами вперед, в глубину двора, туда, где в таком же безмолвии и так же неподвижно стояла другая женщина – маленькая кривая Бася, окруженная своими четырьмя малолетними детьми. На земле перед Басей было большое, темное пятно... Женщина смотрела на него долго, упрямо, точно хотела пронзить землю взглядом, точно силилась вызвать из нее тайною силою глаз что-то очень важное, дорогое... Маленькие дети тоже смотрели на это пятно, а потом переводили недоумевающие глаза на мать. Дети тоже молчали.
К Калману подошла соседка, хромая торговка Шейва.
– Вот так вот все и стоит, и смотрит уже сколько времени, – шепотом проговорила она, показывая глазами на Басю. – На этом месте убили ее мужа... Кровь засохла, оттого и пятно... Сегодня утром волосы там подобрали... белокурые такие, это ее мужа волосы, его борода.
Калман тихо застонал.
– Как же, нашли волосы! – оживленно повторила Шейва, вытирая передником слезы. – Целые космы подобрали... Его ведь так мучили, прежде чем убили, так терзали... Мой внучек, Ареле, с чердака видел... Он на чердак спрятался... Так видел оттуда, что схватили за бороду и так били, так били...
– Домой, – сказала вдруг Сура. Она крепко сжала руку Калмана. – Пойдем домой.
Шейва, сдерживая рыдания, принялась рассказывать подробности, как мучили перед убийством мужа Баси...
– Домой, – повторила Сура. – Пойдем домой.
– Пойдем, пойдем, Сура, сейчас. Подожди минутку...
– Домой, – опять сказала женщина.
В тоне ее было столько тоски, столько упрямой силы, столько жадного и страстного желания, что Калман уже не противился и, не дослушав Шейвы, повернулся к воротам...
– Домой, – как бы с некоторым облегчением повторяла Сура, – домой...
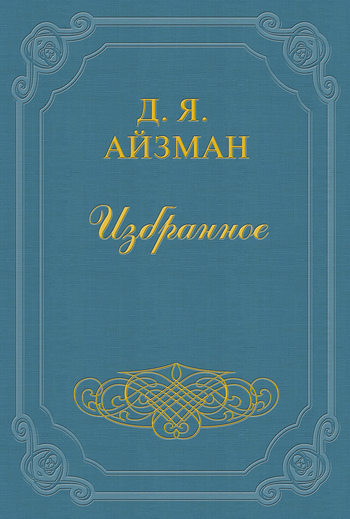 В ту минуту Калман не понимал...
В ту минуту Калман не понимал...
Но через очень короткое время значение этого призыва стало ясным. Сура помешалась... И из всех слов человеческих только одно это произносила она ясно, четко, с большой и вечно напряженной выразительностью.
Она не в состоянии была вести хоть сколько-нибудь связанную беседу. Она не всегда понимала обращенные к ней слова. Она невнятно и глухо бормотала разрозненные, бессмысленные фразы. Суетливо и озабоченно отдавалась она какой-нибудь нужной возне: устанавливала горшки на плите, в которой не разведен огонь; топталась у лоханки, в которой не было ни воды, ни белья. Тускло и невразумительно, путаясь и этого не замечая, вмешивалась она в разговор или вполголоса пела нескончаемые, жуткие песни – про широкое, темно-багровое пятно на земле посреди двора, про светлую бороду, лежащую в этом пятне... Уныло, хмуро и тоскливо звучало ее бормотание: унынием, сумраком и мертвой безнадежностью веяло от всей ее фигуры, от всех ее жестов, и взглядов, и вздохов, и улыбок. Это была сама скорбь, сама беспросветность, холодная, могильная темнота...
Но случалось, что вдруг странное пламя вспыхивало в ее больших безумных глазах; она вздрагивала, выпрямлялась и голосом странным, новым, необычным призывала:
– Домой!..
Покорная действию неведомых сил, благостных и чистых, на миг озаренная внезапно вспыхнувшим внутренним солнцем, в жажде избавления и с великой верой в возможность этого избавления, она громко и страстно звала: "домой" – куда-то далеко, куда-то ввысь, к чему-то дорогому, туда, где все родными окажутся, родными, и добрыми, и правдивыми. Тоскливое лицо ее преображалось; великая радость зажигалась на нем и светлая ласка; лучи сияли из восторженно раскрывавшихся глаз, а голос, наливавшийся и силой, и твердостью, звучал в одно и то же время и как молитва, и как ратный призыв:
– Домой!.. Домой... Домой...
Азриэль не уехал в свое местечко; в виде пробы он остался в городе, где жили его старики. Ему предложили здесь дело: аренду большого пригородного сада. В Америке приходилось Азриэлю работать на ферме, он с садоводством был несколько знаком, и потому сад он теперь снял.
В городе дела три года кряду шли очень плохо, строительства не было, и Калман часто оставался без работы. Вместе со старухой своей он жил почти впроголодь. За последнее время старый печник сильно подался, отощал и сгорбился; ноги высохли, в коленях согнулись и уж не могли выпрямиться. От этого Калман казался коротеньким, как карлик. Кирпичная пыль, в течение долгих лет въедавшаяся в легкие, разъела их, исковеркала, и теперь старик часто откашливался большими хлопьями мокроты. Азриэль предложил отцу переселиться к нему в камышовый шалаш, стоявший в саду, и Калман согласился.
Весна стояла мягкая, солнечная, сад цвел чудесно, и урожай фруктов ожидался богатейший. Азриэль потирал руки, предвидя отличный заработок. Он чувствовал себя счастливым... Разумеется, сады есть и в Америке, и там тоже можно арендовать какой угодно сад – с такими же вот деревьями, с такой же светлой травкой, с таким же золотым солнцем и такими же точно голубыми тенями. Этого Азриэль не отрицал. Он только думал, что все это ему не подходит. Он только думал, что до Нью-Йорка далеко, страшно далеко, – и это-таки очень, очень хорошо, что туда так далеко...
От зари и до полуночи возился он в саду подле кривых яблонь и развесистых абрикосов, окапывал деревья, поливал их, снимал с них гусениц, дружелюбно и радостно улыбался им большими синими глазами, а иногда клал на корявый ствол тяжелую сильную руку и тихонько говорил:
– Ого-го-го, как туда далеко!..
И весьма был доволен.
Некоторое беспокойство в его жизнь вносил только брат Симон. Брату Симону было девятнадцать лет. Он был невысок ростом, очень худ, очень черен, имел длинный острый нос и горящие глаза, – темные, как смола. Азриэль никак не мог разобрать: добр брат, как ангел, или бессердечен, как казак? Наверное знал он только, что горяч Симон необычайно, что вспыльчив он, раздражителен, суетлив и неспокоен. Смелости в нем очень много, и иногда он совершенно не дорожит своей жизнью. Его ранили на баррикаде, и едва только успели ему перевязать ногу, как он опять пошел драться в самооборону, а через час его ранили вторично. На улице он подобрал раненого громилу и на собственных плечах отнес его в университетскую клинику. Текла кровь – собственная Симона из-под сдвинувшейся повязки и кровь громилы, а он, изнемогая, все тащил на себе этого огромного мужика... "Ну уж подождал бы громила, пока я бы стал его на перевязку носить, – мстительно вспыхивая, думал Азриэль. – Таки подождал бы, да!.."
Азриэль очень уважал брата – и побаивался его. У Симона, считал он, были необычайные способности. Все давалось ему легко, всякая наука, и если бы он только захотел, то мог бы сдать самый большой экзамен и сделаться присяжным поверенным. В этом Азриэль ни капельки не сомневался. Но Симон странный человек: он о себе вовсе не думает. Он готов навсегда оставаться водопроводным мастером, но надо ему осчастливить весь мир, и непременно устроить так, чтобы всем было хорошо, и чтобы все по-справедливому было. Но разве возможно, чтобы все на земле было честно? И чтобы все были довольны? Всегда была и правда, и неправда; всегда были богатые и бедные. Надо работать, трудиться, – и тогда можно себе потихоньку прожить. Вот и все!
Так рассуждал Азриэль. А Симон к Азриэлю относился пренебрежительно, почти брезгливо и нередко злобно покрикивал на него:
– Зачем ты вернулся? Ну зачем ты, дубина, вернулся?
Азриэль терпеливо и без возражений переносил эти окрики. И мягкие укоры отца, тоже не одобрявшего возвращения сына, он принимал с такою же безмолвной покорностью. "Вот попробовали бы сами уехать, вот попробовали бы только", – негромко говорил он своим яблоням и грушам...
И опять просыпался с зарей, и опять трудился до полуночи, и чувствовал себя очень хорошо.
Приходил городовой, требовал взятки, кричал, говорил "ты" и всячески оскорблял и куражился. Сосед, кузнец, ругался пархом, проклятым лапсердаком, а напиваясь, обещал "сжечь" и "вырезать всю жидовскую породу". В трезвом виде он обещал то же самое... Каждый новый день приносил все те же новости: там-то был обыск, стольких-то избили резинами, тому-то закрыли торговлю, этого выслали, того засадили в тюрьму... Азриэль молча вздыхал, чесал могучими руками широкий затылок, мигал своими голубыми глазами, – и с чувством облегчения думал, что до Америки далеко...
Старый Калман теперь, щадя сына, реже упрекал его. По мере сил он тоже работал в саду и украдкой тихо плакал, думая о дочери, о бедной Сонюшке, которая брошена куда-то туда, в неведомый Туруханский край, и от которой вот уже одиннадцать месяцев нет вестей...
Безумная Сура и в саду бродила такая же темная, такая же сосредоточенная и дикая, как и прежде там, дома, и, как и прежде, вырывался у нее время от времени внезапный и страстный призыв:
– Домой! Домой!..
 Так протекала жизнь семьи до середины лета – тихо и однообразно.
Так протекала жизнь семьи до середины лета – тихо и однообразно.
Потом случилось нечто неожиданное: появилась холера.
Пошла тревога, поднялась суматоха, начали принимать разные меры предосторожности, дезинфицировать, кипятить воду, очищать базары, окраины... Перестали употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, и сразу пошатнулось дело Азриэля.
Вишни и маленькие груши-скороспелки еще удалось ему продать по сравнительно сносным ценам. Но когда пришла пора поздних абрикосов и слив, эпидемия была уже так распространена, и население до того напугано, что на фрукты не было никакого спроса. Цены упали до степеней неслыханных. Снятые фрукты гнили в сарае, и не было расчета тратиться на собирание плодов, висевших на деревьях. Так они и оставались там, перезрелые и засыхающие, оставались на радость воробьям и ласточкам, дружными компаниями перелетавшим с дерева на дерево и весело клевавшим сладкие сливы и груши.
Азриэль пал духом: он все сбережения вложил в дело и теперь их потеряет. Печальный, оторопевший и расстроенный слонялся он по саду, ходил в город на рынок и там упрашивал торговцев забирать фрукты хоть по самой ничтожной цене... Охотников не было. Все, все до копейки предстояло ему потерять. Надвигалась нищета.
– Что? Приехал?.. Вернулся?.. – насмешливо оскаливая зубы, дразнил его Симон.
Худое темное лицо его при этом странно искривлялось, а глаза злобно щурились:
– По родине соскучился, слизняк!
– Я же не знаю... Симон... Я же не мог знать, – мягко возражал Азриэль.
От деревьев падали на его лицо прозрачные тени, а от него широкая густая тень ложилась на светлую траву.
– Дубина ты, дубина! – с ненавистью восклицал Симон.
– А письма от Сонюшки все нет, – вмешивался старенький Калман, всегда стремившийся помешать спору братьев. – Все нет письма от Сонюшки...
Симон, такой маленький и сухой, презрительно оглядывал тяжелую фигуру брата и, хромая, уходил прочь. И старый Калман тогда вздыхал облегченно...
С некоторых пор отец перестал понимать Симона и слегка побаивался его. Раньше все для него было просто и ясно: старик хорошо знал программу бундистов, сам одобрял ее и понимал отлично, что Симон – сердце горячее и доброе, за осуществление ее готов пожертвовать собой. В последнее же время странное что-то сделалось с Симоном, и теперешней его "программы" старик не постигал, не понимал...
Симон запутался, сбился, растерялся... Много горькой злобы скопилось в его сердце, тяжкое разочарование сдавило его, и отчаяние, глубокое и беспросветное, овладело его надломленной душой. Уже не верил он в то, что было его Богом до сих пор; уже не любил он того, что сияло ему ярче солнца вчера; мысли сумбурные и недобрые выражал он с большой легкостью, и казалось порою, что утрачены им и стыд, и чувство справедливости, и кристальная чистота сердца...
– Я знаю теперь, я знаю, как устроить свою жизнь! – возбужденно восклицал он.
Но слова эти были пустым бахвальством, и ровно ничего о том, как надо устраивать жизнь, – свою или чужую, – он не знал. Старые пути – считал он – привели к разгрому; новые же рисовались так смутно, так неопределенно, и так они были ненавистны!..
Постоянная тревога царила в душе Симона. Он страдая злился, злясь страдал. Раздраженно, с очевидным стремлением раздражать других твердил он, что его ничто не интересует: ни общество, ни народ, ни человечество. Плевать ему на все, на всех и одного только желает он теперь – свою собственную жизнь устроить посытнее, поудобнее, послаще... Роскоши хочет он, наслаждений, веселья, только это ценно, важно и дорого, и к этому он пойдет, хотя бы и через трупы.
Он выкрикивал все это с большой горячностью, даже со страстью, но чувствовалось ясно, что не из сердца идут эти слова... Как будто мстил он кому-то: назло другим, назло себе говорил и в диких выкриках этих находил странное облегчение своей больной душе...
– Ты олух! – накидывался он на брата. – Вернулся из Америки. А я вот в Америку поеду!.. К черту здешние места и здешних людей. Америка!.. Страна размаха, страна свободы... Там я сумею добиться своего.
"Своего? Чего своего?".
Грубо, с нарочитым цинизмом говорил он, что добьется власти, богатства. Самые красивые женщины будут в его распоряжении, самая безумная роскошь будет к его услугам, только это ему нужно, только это он признает...
Однако же незаметно для самого себя он переходил к тому, что тяжело и мрачно живется народу, и снова, как и раньше, как и тогда, когда не была подорвана его вера, со скорбью и силой говорил он о необходимости перестроить всю жизнь, все отношения людей. Опять трепетала его душа живым и правдивым трепетом, опять к подвигу рвалась она, но лишь только замечал это Симон, он тот же час менял тон, менял смысл своих речей и с резким бахвальством начинал твердить, что нет, нет, это все вздор, это остатки прежней трухи и уж теперь он умнее будет, и только о себе, о своей шкуре, о своем благоденствии будет он заботиться...
Он окончательно решил уехать в Америку. Тесно было ему здесь, противны сделались и люди, и порядки, и земля, и небо. "Уехать"! Остановка была только за деньгами. Их не было, и негде было их достать. Холера же распространялась все сильнее, фрукты продолжали гнить на деревьях, нищета надвигалась на Азриэля, на всю семью вплотную...
Уже настал август, первые числа месяца. Вечер был тихий и свежий и отягченный плодами, такими сочными, такими красивыми, в грустном недоумении стоял сад. Молодой и сильный, он весело творил: весной покрылся белым цветом, потом оделся шумливой листвой и на радость людям родил эти прекрасные милые фрукты – золотые яблоки, душистые сливы и виноград, такой крупный, такой прозрачный. Но всем этим никто не пользовался, и вяли, и гнили, и разлагались заживо фрукты на деревьях и на лозе. Печален был вид прекрасного сада, печальны были люди, работавшие в нем, – тяжелый Азриэль с голубыми глазами и его семья... Можно было бы подумать, что это от безумной Суры, от тихого плача ее помутневшей души отделяются какие-то отравленные туманы и бедственным облаком окутывают весь этот обширный, прекрасный, но заразой и смертью напоенный сад...
Семья сидела у камышового шалаша за вкопанным в землю столом. Большой жестяной чайник стоял посреди стола, и Калман разливал чай.
Сура блуждала неподалеку между деревьями, высокая и сухая. Она воображала, что развешивает по веревкам белье, об этом можно было догадаться по жестам ее и по некоторым отрывистым словам. Порою она прерывала свою "работу" и принималась пристально вглядываться то в землю, то в небо, тихо синеющее среди темной листвы.
– Глупое ты существо, ничтожное существо! – сердито говорил Симон Азриэлю, выплескивая на траву остатки чая. – Жил ты в стране свободной, молодой, прекрасной... Был независим, мог делать что угодно, говорить что угодно, слушать что угодно – зачем же было возвращаться сюда, на эту каторгу, под это ярмо... Раб ты! Раб по природе!
– Я не раб, – обиженно, но несмело возразил Азриэль.
– "Домой" захотел, – саркастически передразнил Симон брата. – Нового разорения захотел, новой нищеты...
– А кто же знал, что будет холера? – поникнув, процедил Азриэль.
– В этой стране всегда что-нибудь есть! – глаза Симона злобно засверкали. – Не холера, так погром, так военное положение, так голод. Выбор богатый, и всегда что-нибудь на тебя свалится... "Домой"... стосковался!.. Дубина синеглазая...
Он взял кусочек сахару, положил на него нож острием вниз и сверху ударил ладонью. Мелкие кусочки сахара брызнули во все стороны.
– Вот, нету от Сонюшки письма, – с тяжким вздохом протянул Калман. – Все нету письма...
Темнело, и темною грустью веяло от тихой жалобы старика. Ни один листок не шевелился на деревьях. Звезды загорались в небе, неясные еще и бледные.
– Ты все ругаешься... Ты все сердишься... – с неожиданным волнением заговорил вдруг Азриэль. – Ругаешься... А... а... например... а вот видишь ты... вот это дерево... яблоню?
– Какую яблоню?
– Яблоню... Вот эту... И у нее корни... Вот, покопай землю – увидишь... Там корни.
– Ну, корни.
– Так вот эти самые корни... например... они же в земле... они же ползут в земле... Значит, и тесно им там... и темно... Сырость тоже... И там бывают же черви...
Видно было, что Азриэль сильно волнуется. Какие-то мысли – для него слишком сложные – тревожно теснились в его голове, он чувствовал потребность их немедленно выразить, а слова по обыкновению приходили с задержкой...
Симон с удивлением посмотрел на брата.
– Ты что-то расфилософствовался сегодня, – насмешливо проговорил он.
– Смеешься!.. Смеяться легко... – Азриэль встал и для чего-то взялся рукою за ствол дерева. Точно боялся он, что не устоит в словесной баталии, которую затеял с братом, и искал опоры...
– Таки черви, – сильнее волнуясь, продолжал он. – И теснота, и темнота, и все... Ну хорошо... А например... а выкопай эти корни... Ну-ка, выкопай их! Вытащи их наверх... И скажи им: нате вам, корни, солнце, нате вам свободный воздух, нате вам, корни, небо, а тут вот вам трава... зеленая... И она пахнет... Так что?.. Так корень обрадуется?.. Корень будет жить?.. Я не понимаю... Он же сейчас засохнет!.. Ну и я не могу... Дразнишь... ругаешься... Ты читаешь книги, прокламации... как присяжный поверенный. А я все-таки не могу... Американское солнце... Я засохну... Мне не надо... Я не могу...
Азриэль возбужденно зашагал взад и вперед... Он, видимо, хотел говорить еще, но волнение мешало. Голос его при последних словах дрожал, и при свете звезд было видно, что в больших синих глазах парня сверкали слезы...
– Смейся... Дразни, кричи на меня... – с усилием проговорил он потом. – Кричи... А я вот хочу так... Домой хотел... И все...
Симон молча смотрел на брата, и лицо его было задумчиво и печально.
– Больше не буду дразнить, – глухо сказал он. – Я завтра уезжаю... Туда. В Америку... Я добыл деньги... Пароход уходит утром. Сегодня мы в последний раз проводим вечер вместе... Туда, в страну свободы, – мечтательно проговорил он после некоторой паузы.
И, постепенно загораясь, он продолжал:
– Буду работать, буду учиться, буду узнавать... все постараюсь узнать!.. Ведь так мало я знаю... и понимаю... Начатки одни, обрывки, верхушки... И путаешься, и сбиваешься, и попадаешь в провалы... Ужас ведь, что начинаешь говорить!.. Все, все до конца, все до дна надо узнать!.. О Боже, как это прекрасно. Дышать свободой, говорить громко и смело, и каждый день узнавать все новое и новое – именно то, что нужно говорить другим... И чувствовать, что растет в тебе человек, тот человек, которого в тебе здесь забивали и убивали, – он растет и крепнет, и зреет, и развивается. Чувствовать, что ты от солнца берешь лучи, от неба – мудрость, от океана – силы... Боже мой!.. Америка... Свобода!.. Источник силы, света!.. И я увижу его, увижу!
Он говорил горячо, почти вдохновенно, и вновь с тою светлою молодою искренностью, которая безраздельно владела им так еще недавно и отсутствие которой с таким скорбным изумлением отмечал в нем старый Калман в последние месяцы. И видимо сам он радовался этому воскресению своему и трепетно упивался охватившей его чистой волной... Точно теплым майским дождем оросило его душу, точно вся благоухающая прелесть этого тихого вечера вдруг вошла в нее и растроганная, полная нежности и грез, и надежд, окрыленная, она опять порывалась вверх к чистоте бессмертной, к любви сияющей...
Он подошел к брату и взял его за обе руки.
– Азриэль! Вот ты опять потерял здесь все – уезжай опять! Едем вместе, едем оба.
Молодой месяц стоял над садом, над черными деревьями и серебряными лучами озарял поднятое кверху лицо Симона. Лицо это, худое, тонкое, светилось теперь нежностью и лаской.
– Нет, – насупившись, проговорил Азриэль. – Я обнищал опять. Ничего... На будущее лето я наймусь рабочим... вот в этом же самом саду... и останусь жить здесь... дома.
– Там наш дом, Азриэль! Он будет там!
Азриэль освободил свои руки из рук Симона и отошел в сторону. Лицо его сделалось угрюмым, почти злым.
Все молчали.
Черные тени тихо лежали на посеребренной земле, черные деревья густым строем стояли и справа, и слева, и меж ними, то приближаясь, то удаляясь, с невнятным бормотанием бродила высокая Сура.
– Видите ли, дети мои, – тихо начал Калман. – Вот значит и выходит так: "домой"... Каждый из вас тянется домой... Ну да... А я вам таки скажу, что это значит... Да, я скажу вам.
Он запнулся и умолк.
Маленький, тощий, с длинной бородой, весь искривленный, весь покрытый густой тенью толстой старой яблони, он похож был на гнома.
– Да, кажется мне, что оно так: вот ты, Азриэль, говоришь "домой" – и тянешься в Россию. А ты, Симон, тоже говоришь "домой" – и рвешься в Америку... Каждый хочет домой... И вот оттого, что каждый хочет, и крепко хочет, и очень, очень крепко хочет, оттого все и слава Богу... Да.
– То есть что же это – "слава Богу"? – тихо спросил Симон.
– Да, слава Богу... Конечно, когда пятьдесят лет сряду кладешь печки и ворочаешь кирпичи, то от этого мозг не становится деликатнее... И слово само делается, как кирпич... Тяжелое... И уже не поворачивается оно... И конечно, не такой уже я знаменитый профессор, чтобы это объяснить... Да... Но только мне кажется... Поезжай, Симон! – прервал себя старик, спутавшись окончательно. – Поезжай, дитя мое!.. Оттого, например, что ты едешь туда, а он – сюда, и каждый ищет, и каждый хочет, и каждый свое любит, – оттого все и слава Богу... Если сидеть на месте и гнить не двигаясь, и не искать, то это таки был бы конец. Последний конец!.. Но каждый ищет свое "домой", – где ему будет хорошо, где другим будет хорошо, где всем будет хорошо... И вот это, это таки спасает!.. Крепко ищет, и крепко любит... свое "домой" ищет и любит.
– Я никуда не поеду, – упрямо отозвался Азриэль.
– Ой, ищут, ой, ищут свое "домой"!.. Каждый по-своему... И Сонечка тоже искала... Нету, нету еще письма от Сонечки... Да! Но письмо будет... И пока еще ищут, до тех пор таки и слава Богу... Да... И оттого мы еще живем на земле, что ищем свое "домой". И других мы оттого пережили... А если бы перестали искать, то перестали бы и жить... Завтра пароход, Симон? Утром? Поезжай утром. Поезжай!
Симон подошел к отцу, положил обе руки к нему на косые плечи... С удивлением и взволнованный смотрел он на сморщенное измученное старческое лицо... Луна освещала верх соломенной шляпы, которая была на старике, и нижний край его бороды. Лицо же все было заткано прозрачной зеленоватой тенью, из тени этой старческие глаза смотрели бодро, ласково, с любовью и несколько виновато...
– Я же тебе говорю: слова как кирпич делаются... И трудно дать понять... Но сам я... во внутренности, в своем сердце – я это очень понимаю... Ты тоже должен понять... Симон... Ты же – Симон!.. И одним словом: будут времена, сын мой! Не бойся – и поезжай себе утром...
Из-за камышового шалаша показалась высокая фигура Суры. Женщина приблизилась к столу, остановилась у черного ствола яблони и голосом отчетливым, сильным проговорила:
– Домой... домой... домой...
Месяц ласково смотрел с далекого неба и сиянием серебра одевал и землю, и людей, и желания их, и грезы...
* * *

Могила писателя Давида Айзмана на Казанском кладбище г. Пушкина (С. Петербург)
