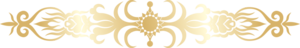Руфь Мееровна Тамарина
(1921-2005)
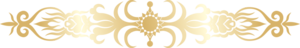
Щепкой в потоке...
Лес рубят – щепки летят...
Народная поговорка
Еще двадцать пять лет тому назад друзья уговаривали меня – пиши о своей жизни, ведь на твою долю досталось почти все, что могло достаться человеку твоего поколения. Но, видимо, тогда я еще не созрела для такой работы. Впрочем, дело было не только в этом, и я ниже подробнее расскажу о причинах моего долгого молчания. Здесь же хочу всего лишь предварить немногими словами свои заметки «о времени и о себе» и, может быть, больше о себе, чем о времени, но и о времени – тоже, ибо вольно или невольно оно нас формирует, лепит, как гончар, – это еще Омар Хайям заметил в своих «Рубай»:
Гончар. Кругом базарный день. Шумят.
Он топчет глину целый день подряд.
А та угасшим голосом лепечет:
Брат, пожалей! Опомнись, ты мой брат!
(Пер. И. Тхоржевского)
Я назвала эти записки «Щепкой – в потоке...». Многие оправдывали, да и сегодня еще пытаются оправдать этой поговоркой тот жесточайший террор, какой захватил нашу страну на долгие годы с начала 30-х и до начала 50-х (а может быть, правы и те, кто считает, что он начался еще раньше).
Я тоже долгое время ощущала себя такой «щепкой» в потоке жизни, захватившем меня еще в 16 лет. Пытаться сопротивляться этому потоку я по-настоящему начала только через двадцать с лишним лет, когда, создав семью, я ощутила в себе биение новой жизни, движение своего дитяти.
Может быть, эти мои заметки помогут молодым душам учиться не плыть по течению, а оставаться самими собой, сопротивляясь неправде и несправедливости, которых, к сожалению, пока что не так и мало.
* * *
 Не люблю золотых украшений – они дешево смотрятся. Мне больше по душе теплый, чуть тусклый свет серебра. Но и серебряных украшений у меня совсем немного. И все же, когда мы с мужем надолго уезжаем из города – на отдых или в гости к сыну, я непременно увожу с собой свои драгоценности. Пишу это слово без кавычек, хотя речь идет не об украшениях, а всего лишь о документах – нет для меня более дорогих вещей на земле, чем эти четыре Справки о реабилитации. Разве что – здоровье моих близких: мужа, детей, внуков...
Не люблю золотых украшений – они дешево смотрятся. Мне больше по душе теплый, чуть тусклый свет серебра. Но и серебряных украшений у меня совсем немного. И все же, когда мы с мужем надолго уезжаем из города – на отдых или в гости к сыну, я непременно увожу с собой свои драгоценности. Пишу это слово без кавычек, хотя речь идет не об украшениях, а всего лишь о документах – нет для меня более дорогих вещей на земле, чем эти четыре Справки о реабилитации. Разве что – здоровье моих близких: мужа, детей, внуков...
Четыре Справки о реабилитации: две о посмертной – папы и мамы, две наших – мужа и моя.
Сегодня, конечно, такими Справками никого не удивишь, мы уже хорошо знаем, что целыми семьями и родами в первую волну – в тридцатых, и во вторую – в конце сороковых – начале пятидесятых, истреблялись, выкорчевывались целые слои партийной и беспартийной интеллигенции, а также рабочих и крестьян, – тех, кто был нравственней, честней, правдивей других. Брали отцов, потом или одновременно матерей и взрослых детей. А через десятилетие и подросших детей.
Так что сегодня мало кого удивишь наличием в одной семье стольких Справок, в каждой из которых есть слова «за отсутствием состава преступления». И все же мне кажется, что в судьбе моей семьи, как в капле – океан, отразилось время. И именно это побудило меня взяться за свои записи. Но не только это.
8-го октября 1988 года по Центральному телевидению в передаче «Читательская конференция журнала "Литературное обозрение"» известный писатель-публицист и литературовед Юрий Карякин сказал: «Правда о себе в этом времени – наш долг и задача в оставшийся нам срок жизни». Я не успела записать его дословно, но за точность мысли – ручаюсь.
Меня спросят: так что же ты так поздно спохватилась – ведь уже опубликованы «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, «Черные камни» Анатолия Жигулина, записки о пережитом Льва Разгона и Георгия Жженова, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского и многое, многое другое.
Один из честнейших поэтов нашего поколения, мой однокурсник и товарищ по Литературному институту, которого я потом выбрала себе Учителем и Командиром, Борис Слуцкий написал когда-то:
Несподручно писать дневники.
Разговоры записывать страшно.
Не останется – и ни строки.
Впрочем, это неважно.
Верю, музыкой передадут
вопль одухотворенного праха,
как был мир просквожен и продут
бурей страха.
Эти стихи исчерпывающе точно передают состояние многих честных людей того страшного времени, имя которому – сталинщина.
Я расскажу о нескольких судьбах – моих близких, своей, о нескольких замечательных, ярких людях, встреченных мною в «дальних странствиях». А впрочем, не таких уж и дальних – в Степном лагере, расположенном в конце сороковых – начале пятидесятых в поселке Кенгир вблизи города Джезказгана.
Я не вела дневников и ничего не записывала (кроме стихов) не только потому, что это в лагере запрещалось, но и потому, что встретила там дочь зарубежного коммуниста, репрессированного и уничтоженного в 37-м году, получившую по приговору Особого Совещания свои 10 лет, единственным обвинительным документом против которой были ее собственные дневники об аресте отца...
Имя нам, «детям 37 года» – легион. Судьбы наши при всем их различии, до ужаса схожи – детские дома или просто сиротство, и раньше или позже: тюрьма, лагерь, ссылка.
Читая как-то в одном из номеров «Известий» статью Героя Социалистического Труда Вячеслава Серикова, посвященную, в основном, проблемам перестройки и его профессиональным строительным заботам, я горько расплакалась над последней колонкой его статьи, где он кратко рассказал о своей судьбе – о том, как в ночь ареста отца некий лейтенант НКВД запросто положил в свой карман золотой портсигар отца – именную награду за храбрость в Гражданскую войну; о том, как в детском доме, куда он попал как «сын врага народа», им, «детям врагов», выстригали крестом волосы на голове (и девочкам – тоже!), чтобы они не могли убежать...
Я плакала над судьбами этих детей (но и над судьбою своего младшего брата, попавшего в детдом на Украине и сгинувшего там в гитлеровской оккупации, так как в панике отступления не всех детдомовцев успели эвакуировать), но, плача, думала – какой же силы, веры и таланта было поколение репрессированных, если даже их дети, прошедшие «огни и воды», кто начиная с 37 года, кто во «вторую волну» (1948–1952 годы), стали не просто честными, достойными людьми, но, как Вячеслав Сериков, Святослав Федоров, как писатели Юрий Трифонов, Чингиз Айтматов, Камиль Икрамов и многие, многие другие, – стали людьми выдающимися, талантливыми, отдавшими стране всю страсть души, весь свой дар!
Ах, как ругали литературные снобы «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова, как искали в них исторические и художественные просчеты и недостатки. И как жадно, узнавая свою жизнь, свои обстоятельства, мысли и чувства, читали эту книгу мы, «дети «Тридцать пятого и других», на каких бы улицах каких городов ни ворвалась бы в наши судьбы эта главная беда наших жизней...
А затронула она, почти так же, как Великая Отечественная война, громадное количество семей нашей многонациональной Отчизны. И если не родители, то – дядья и тети, дедушки и бабушки, захваченные этим смертельным водоворотом, находятся чуть ли не в каждой третьей или четвертой семьях.
Я очень любила своего отца, скорее была даже влюблена в него – веселого и доброго, хотя видела его мало и редко – в тридцатые годы было заведено на любом мало-мальски «руководящем» посту работать до поздней ночи: авось, понадобишься «наверху». А уезжал он на работу чуть свет – когда я еще только просыпалась. Наверно, если бы он дожил до моей взрослой поры, я могла бы рассказать о нем подробнее и... объективнее. Ведь только став взрослыми, мы можем увидеть своих близких, своих родителей как бы со стороны и оценить – какими они были. Мне же не удалось увидеть отца взрослой, и облик его затушеван временем: за чисто информационными строчками Справки из Партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС трудно разглядеть еврейского парнишку из украинского местечка Звенигородка, который в 15 лет пошел работать «приказчиком на складе» – так написано в Справке, я же думаю не «приказчиком», а мальчиком на побегушках: кто же поставит приказчиком подростка с двумя классами церковно-приходской школы? Его отец, мой дедушка, был местечковым портным, шил рясы православным священникам, за что еврейский мальчишка получил право учиться в церковно-приходской школе.
Строчки Справки: «в мае 1915–феврале 1917 – слесарь на Одесском заводе, чернорабочий на рыбном промысле г. Астрахани». Фотографий не сохранилось, потому что их, видимо, и не было, но я вижу смуглого большеротого юнца, ищущего своей доли, своего места в жизни, и отнюдь не самого легкого.
Еще одна строчка Справки: «февраль-ноябрь 1917 года – рядовой 17 инженерного полка (старая армия), Австрийский фронт». Несколькими строчками выше – «член КПСС с мая 1917 года». Именно так и было написано в Справке, хотя тогда и не было еще этой аббревиатуры. Значит там, на фронте первой мировой, он вступил в партию – это было совершенно естественно в той судьбе, что встает за сухими строчками документа.
Там, где написано «красный партизан в партизанском отряде в Киевской губернии» – опечатка: написано «с марта 1917 по 1918», должно быть «с марта 1918 по 1919». А я вижу юную пару: Он – вчерашний солдат, ныне подпольщик, еще юнец, но выглядит старше – работа на рыбном промысле, окопная жизнь обветрила скулы, задубила кожу на ладонях, но веселые зеленые глаза смеются, и Он покоряет Ее, несколькими годами старшую, образованную, интеллигентную, не только закончившую гимназию золотой медалисткой, но успевшую уже окончить и кредитно-экономический институт. Она еще затягивается в корсет (врожденная склонность к полноте) и носит модные шляпки (элегантная по моде того времени, стройная и привлекательная молодая женщина смотрит на меня со старинной фотографии – даты нет, но мне почему-то кажется, что именно такой папа увидел маму впервые).
Ирония и удаль зеленоглазого упрямого юноши покоряет Ее. Он, подпольщик, скрывается в доме мужа Ее старшей сестры, своего старшего брата. А Ее зовут Тамара, и Он навсегда становится Тамариным. Потом, в начале 30-х, когда в «Известиях» будут публиковаться огромные списки желающих поменять имя и фамилию, я услышу и запомню, как мама уговаривала отца оформить перемену родовой фамилии Гиршберг на пожизненно приросшую к нему партийную – Тамарин, а он только отмахивался – «некогда!..» Тем не менее, так я и родилась – Тамариной.
Еще строчка Справки: «начальник секретариата морской базы в Одессе – май 1921–ноябрь 1922 г.» А у меня, родившейся в июне 21-го – первое сознательное воспоминание: горбатая узкая улочка (потом узнала и название – Казарменный переулок, говорят, и сейчас так называется), я у кого-то на руках вижу с небольшого балкончика с балюстрадой – второй этаж, – как вверх уходит отряд моряков: запомнила равномерно колышущиеся спины в черных бушлатах. Наверное, с ними уходил отец, а мы его провожали...
Позже другое воспоминание – мы в поезде, который остановился ночью где-то в поле, почему – не знаю. Горят костры, фыркают кони... Много лет спустя написала стихи:
Я помню ночь: мне отроду три года,
переезжаем из Одессы в Харьков.
В степи костры и табором – подводы,
не помню где. Как будто под Вапняркой.
Авария или угля нехватка –
не знаю, что случилось ночью этой,
но степь плыла дырявой плащ-палаткой,
незримо залатавшейся к рассвету.
И в темноте овсом хрумтели кони,
и женщина встревоженно смеялась.
И будто мы спасались от погони –
от ночи ощущение осталось.
А после было все, как должно в детстве:
отсутствие забот и дни рожденья.
А эта ночь осталась без последствий.
Вот только лишь погони ощущенье...
Следующее раннее воспоминание – отец приехал из летнего армейского лагеря: он в полотняной белой гимнастерке, загорелый, вкусно пахнет кожаным ремнем. Это – Смоленск, где я пошла в первый класс, минуя приготовительный, называвшийся тогда нулевым.
Но еще раньше были Харьков и Винница – отец был военным, и как все семьи военных во все времена мы кочевали вместе с ним. Впрочем, Винницы почти не помню, видно, туда приезжали с мамой только летом. Смутно помню и Харьков – несколько лет назад довелось там побывать, и я упорно искала на Пушкинской дом, где мы жили, увлекая своих спутников из одного двора в другой, но так и не нашла того дома, который смутным видением из раннего детства мерещился мне много лет...
Помню и такое: у друзей отца родилась дочь, мои родители уходят вечером на «октябрины», но меня не берут, я реву... Девочку назвали красиво на испанский лад – Кармией. Но к Испании это имя отношения не имеет: отец девочки, папин сослуживец, военный, имя придумал из словосочетания «Красная Армия». И хотя это уже 25-й год, но многие еще называют новорожденных «современными», «революционными» именами. Уже взрослая, где-то прочла, что в те годы какую-то бедную девочку назвали «Великий План ГОЭЛРО Степановна», и сама была знакома с женщиной, у которой в паспорте было записано «Звездочка Ивановна». Конечно, это были издержки революции, издержки ниспровержения всего старого, прежнего, даже в таких, казалось бы, «мелочах», как имя новорожденного...
В Смоленске еще помнится крутой спуск к Днепру по дороге в Дом Красной Армии и, куда меня водят на детские спектакли по праздникам. Помню и сад Блонью в центре города, его красивую чугунную ограду, где ласточками на чугунных нотных линейках присели ноты – это памятник композитору Глинке. Еще помню Кремль и ров рядом с ним – мы живем близко, и в соседнем запущенном старом парке заросли папоротника – только что прочитан «Принц и нищий» Марка Твена, и мы с подружками играем в «принцев» и «принцесс» – из больших папоротников сочиняются «королевские» наряды: латы, юбки, короны... (я рано начала читать – еще в 4 года в Харькове: бабушка учила очередную няню грамоте, но она убежала на свидание, а я вылезла из-под стола и «утешила» бабушку – «учи меня!» И сразу же не по складам прочла «Маша варит кашу».) А в Смоленске мне уже 8 лет, я учусь в первом классе и мама ежедневно пишет со мной диктанты, а читаю я уже давно свободно...
Там, в Смоленске, 18 марта, в День Парижской Коммуны родился в 29-м году брат, и в честь одного из деятелей Коммуны, Артура Арну, его назвали Артуром: мама любила красивые, звучные имена. Может быть, в этом проявлялось ее так и нереализованное призвание к оперной сцене: у нее было красивое и сильное меццо-сопрано, абсолютный слух и от природы поставленный голос. Но поступить в консерваторию одной из семи детей скромного бухгалтера где-то в «экономии» (так назывались богатые усадьбы на Украине), получавшего 25 рублей ассигнациями в месяц, у нее возможности не было. Крупная, красивая, она была создана для оперной сцены. И конечно, очень любила петь – я рано узнала много прекрасных мелодий: и «Заповит» на слова Шевченко, и песню Сольвейг, и танец Анитры из григовского «Пер-Гюнта», и старинные романсы и песенки, и оперные арии. Дома было много нот и даже фортепьянный клавир «Евгения Онегина», и когда мама вознамерилась сама учить меня музыке и для этого срочно было куплено старенькое пианино, то я пыталась одним пальцем наигрывать все вокальные партии из «Онегина». Из этой затеи ничего не вышло – «не в коня» оказался «корм». Пианино так же быстро, как купили, продали, хотя у Артика были несомненные музыкальные способности, проявившиеся очень рано. Но в музыкальной районной школе, где мама показала его лет пяти-шести, нашли, что его надо учить не на пианино, а на виолончели, что вскоре и осуществилось. И даже в детдоме потом он играл в оркестре на трубе.
В 29-м году отец демобилизуется из армии и переходит на партийную работу, а в 30-м мы пересажаем в Москву.
Отец и здесь на партийной работе и только в 35-м году переходит на хозяйственную – директором старейшего Вагоноремонтного завода им. Войтовича: в сентябре 1993 года праздновалось его 125-летие. В короткие сроки вместе с парторгом завода Ванниковым (братом известного руководителя промышленности) они выводят завод из глубокого прорыва и одними из первых становятся кавалерами недавно учрежденного ордена «Знак Почета»... Но в 36-м году начинается партийное следствие – кто-то, случайно встретив отца на улице, вдруг вспоминает, что в 25-м году, в Харькове, когда широко обсуждалась (и осуждалась) на собраниях книга Троцкого «Уроки Октября», отец выступил, осуждая книгу, но призывая к сдержанности в адрес ее автора как члена ЦК. Интересно, что ни отец, ни даже председатель и секретарь того собрания не помнили его выступления, но нашлись протоколы, и в июне 1937 года моего отца Тамарина Меера Семеновича исключили из партии, а 13 августа – арестовали. Где, когда, как он погиб, я до сих пор не знаю. В Свидетельстве о его смерти, выданном после получения Справки о посмертной реабилитации, почти во всех графах – прочерки...
Так писала я осенью 1988 года, когда начинала эту повесть. Сегодня, в конце 98-го, я с неопровержимой беспощадностью знаю уже, как и когда погиб мой отец, не знаю только, где захоронен...
Я прочла дело № 3837, пухлое дело, полное всяких обязательных документов: справок, протоколов ареста, обыска и т. п. На положенном месте фотография – в профиль и анфас, хорошего качества фотография – достоверная: светлые страдающие глаза, бородка-лопатой, видно, давно не стрижена, ничем не напоминает ту красивую, клинышком подстриженную, которая скрывала довольно широкую нижнюю челюсть и подчеркивала, высвечивала внутреннюю интеллигентность.
Не получивший никакого систематического образования, он старался много читать, хотя времени никогда не хватало, и собрал прекрасную библиотеку – очень пеструю и по внешнему виду, и по содержанию, но свидетельствующую о тяге к знаниям, к культуре и искусству. В ней были толстые научно-популярные издания первых послереволюционных лет, изданные уже без ятей, в одинаково аскетических картонных переплетах, оклеенных светло-синей бумагой, и издания «Асаdemiа», к примеру – «История древнего театра». Была редкая книжка «Антология китайской и японской поэзии IХ-Х веков», где я впервые двенадцатилетней девочкой прочла «Записки у изголовья» Сей-Сёнагон, на всю жизнь поразившие тончайшей точностью психологических настроений, записанных фрейлиной японского двора еще тысячу лет тому назад... Были «Золотой осел» Апулея и «Опасные связи» Шодерло де Лакло...
И вот – бледное, отечное лицо, страдающие глаза и... глухое молчание. Упорное, вопреки всему... Я могу только догадываться, каким способом от него добивались и добились, что арестованный 13 августа 1937 года, он только в феврале 1938-го, 12 и 15, стал давать так называемые «собственноручные» показания. Я читаю родным крупным почерком написанные ужасающие слова самооговора, самообвинения Бог знает в чем: в троцкизме, в систематической контрреволюционной деятельности, во вредительстве...
Тогда, в феврале 38-го внезапно опечатали одну из двух комнат нашей квартиры, и потом, пытаясь догадаться, что это могло означать, я решила, что тогда его и не стало. Нет, оказывается, так соблюдалась видимость законности: до тех пор, пока он не признавал себя виновным, все было без перемен, Но когда он оговорил, оклеветал себя, он уже сам себя приговорил... И вот уже опечатана одна из комнат, и в апреле арестовывают маму...
Фотография отца датирована 5 мая 1938 года. 16 июня 1938 года Военная Коллегия Верховного Суда приговаривает его к ВМН – высшей мере наказания с применением Закона от 1 декабря 1934 года по ст. 17-58 п. 8 и ст. 58 пп. 9 и 10 (террор, вредительство, преступная группа).
Закон от 1 декабря 1934 года, дня убийства С. М. Кирова, требовал немедленного исполнения приговора в тот же день без промедления и права обжалования. Что и зафиксировано официальной справкой от 16 июня 1938 года...
Потом я читала реабилитационное дело, подвёрстанное тут же. Хотя я получила право подать заявление о пересмотре его дела только в декабре 1956 года, после получения Справки о своей реабилитации, начало этого реабилитационного дела датировано еще апрелем 56-го. Видно, кто-то из осужденных вместе с ним остался в живых и подал на пересмотр сразу же, как представилась возможность,
Обычно в реабилитационных делах есть материалы о тех следователях, которые вели дела в 37-38 годах. В деле отца есть только косвенное свидетельство – показания одного из его однодельцев о том, как подолгу заставляли стоять, били, ругали... Есть в деле и показания восьми человек, подписавших во время следствия «Акт о вредительстве на заводе им. Войтовича», где отец был директором почти до ареста. Все восемь человек отказались от своих прежних показаний, признали «Акт о вредительстве» оговором, оправдываясь временем, в которое вынуждены были его подписать. Есть и несколько запросов в те областные парторганизации, где отец состоял на учете. На обороте каждого одинаковый штамп: «Компрометирующих сведений не имеется»...
И как итог – вывод: отсутствует состав преступления. Реабилитирован. Посмертно.
Про обвинения в троцкизме мне рассказала после возвращения из Темников мама. А спустя много-много лет, когда я сама вернулась из Степлага, человек, помнивший моего отца, сказал мне: «Ты даже не представляешь, каким хорошим человеком был твой отец, как все, кто с ним работал и общался, любили и уважали его за справедливость и доброту!..» Я поверила этому человеку, которого сама уважала за те же свойства, не только потому, что очень хотелось поверить, и не только потому, что речь шла о моем отце, но и потому, что я сама его любила, наверно, в детстве за те же свойства, ведь детские души – очень чуткие инструменты и остро ощущают и любую фальшь, и истинную доброту.
Помню, я однажды случайно услышала, ночной разговор родителей, они думали, что я уже уснула, а я зачиталась допоздна: мама жаловалась папе, что я стала ей дерзить и грубить, а он возражал ей: «У девочки – трудная подростковая пора...» Меня окатила волна благодарной нежности к отцу – он, человек, в сущности, необразованный, оказался тоньше и мудрее моей образованной мамы...
Мама, Тамарина Тамара Михайловна, беспартийная, по специальности экономист-плановик, была тем, кто тогда назывался «совслужащий». Службу оставила только в 35 году, когда занялась общественной деятельностью на заводе, где работал отец, – была председателем Совета жен ИТР (прообраз будущих женсоветов). После ареста папы вновь пошла, конечно, работать в какую-то контору счетоводом. Примерно за месяц до своего ареста она сказала мне: «Ты уже взрослая девочка, тебе – шестнадцать, у тебя уже есть паспорт. Ты должна знать, что я ни минуты не верю в виновность папы, и хоть я беспартийная, но разделяю все его убеждения. Поэтому я каждый день жду его возвращения домой. И когда он придет, ты немедленно должна зажечь газовую колонку в ванной, дать ему чистое белье и позвонить мне... Но ты знаешь, что вокруг арестовывают всех товарищей отца, старых коммунистов, и не только их, но и их жен тоже – партийных и беспартийных. Не думаю, что буду исключением, если папа не вернется. Будь готова и к моему аресту». Так сказала мне моя сдержанная, строгая мама, которая только один раз в жизни обнялась со мной и заплакала – на рассвете, после того, как увели отца...
За нею пришли вечером 8-го апреля 1938 года. К тому времени уже была опечатана одна из двух комнат нашей небольшой квартиры. В тот вечер случайно оказалась в гостях мамина сестра тетя Вера, обычно великая домоседка, но почему-то именно тогда выбравшаяся к нам. Мама, как будто предчувствуя что-то (оказывается, и так бывает...), успела предупредить нашу няню-домработницу Нюру, что с этого дня она должна искать себе новую работу, так как маме не по средствам платить ей жалованье. Домработница в доме была всегда, так как мама работала, а ее мама, моя бабушка, была старенькой. Она умерла в возрасте 85 лет 1 августа 37 года, за две недели до ареста папы, как будто почувствовав, что грядут тяжкие времена. Тяжело болела она недолго, только последние перед смертью месяцы, а раньше всегда вела все хозяйство, и вот ей-то и помогала всегда какая-нибудь молодая женщина из деревни. Тогда это была Нюра – тихая и скромная девушка из Ельца. Она умела плести кружева из суровых ниток, и я помню сухой дробный перестук деревянных коклюшек... И мама не поверила, когда в домоуправлении ее предупредили: «Тамара Михайловна, откажите Нюре от места, она приходит и требует, чтобы ей, как жене военнослужащего, отдали опечатанную комнату...» Мама не захотела этому поверить, но платить Нюре из своей небольшой зарплаты, действительно, больше не могла и в тот вечер сказала ей об этом...
Через три недели после ареста мамы, 30 апреля 38-го года меня вместе с Нюрой поселили в общей комнате площадью 16 кв. метров в доме возле Курского вокзала. И еще два года – весь 10-й класс и 1-й курс Литинститута – мы жили в одной комнате вместе – с Нюрой, ее младенцем, вскоре родившимся, ее демобилизовавшимся мужем и часто наезжавшей в Москву из-под Ельца деревенской родней. И только когда в 40 году мне удалось настоять на размене, мы разъехались.
...Хотя мама, уходя, просила свою сестру не отдавать брата в детский дом, и это удалось (тетя Вера забрала Артика к себе), а я жила с Нюрой, мы с тетей Верой вскоре сами отвели его в Даниловский детский приемник – я еще не имела права оставить его у себя, мне было всего 16 лет. А тетя и дядя были старенькими, у них были уже взрослые дети, и уследить, чтобы девятилетний мальчик не попал под влияние «упицы», им было трудно – дядя работал, а тете с больными ногами бегать с четвертого этажа по крутым ступеням черного хода в глухой колодец двора было попросту не по силам. А самое главное, они были уверены, что мама вот-вот вернется: «ведь должны разобраться в том, что она беспартийная... Лето жаркое, и детдом, наверняка, вывезут в пионерлагерь, а к осени Тоня (так маму звали в семье) как раз и вернется...»
Когда через день после того, как мы отвели Артура, я пришла к нему с гостинцами, его уже не было в Даниловском детприемнике Через некоторое время от братика начали приходить регулярные письма.
...После дела отца я читала дело мамы – номера его почему-то не записала. Ее арестовали, как я уже выше рассказала, 8 апреля 1938 года, вечером. Той же ночью первый допрос. Обвиняется в недонесении о преступлении: ст. 17-58 п. 12. Два-три протокола допросов. Ответ мамы один и тот же: «виновной себя не признаю». 19 июня 1938 г. (через три дня после расстрела отца!) следствие окончено, сформулировано обвинение: «знала, но скрывала...» Мамино «Виновной себя не признаю» – проигнорировано. Приговор – 5 лет ИТЛ: Мордовские (Темниковские) лагеря, Потьма...
Больное и до ареста сердце мамы даже лагерному начальству не позволило послать ее на общие работы. Впрочем, общие работы – пошивочный цех. Сперва мама пришивала пуговицы. Потом, видно, и на этой работе при всей своей добросовестности – не справлялась с нормой. Впрочем, женскими домашними уменьями – готовить, шить, штопать – она была от природы обделена, к сожалению, да и нужды не было, я уже рассказала, что дом держался на ее маме, моей бабушке. Так или иначе, её поставили учетчиком готовой продукции и еще – чтицей: женщины склонялись над швейными машинами, а мама заменяла радио – читала им, благо и голос был звучный, и литературу знала и любила, а библиотеки в лагерях и тюрьмах часто были очень хороши – пополнялись из неиссякающего источника – конфискованных книг...
Она появилась в Москве в мае 1943 года, беззубая, коротко остриженная: уже перед самым концом срока заболела тифом и была задержана в лагерной больнице. 7 мая 1943 года ее прописали на «101 километре», в городе Александрове Владимирской области: за 4 года, до 25 октября 1947 года, когда она умерла, в ее деле – семь (!) александровских адресов...
Высококвалифицированный экономист-плановик, она работала счетоводом, мл. бухгалтером, была рада и этой работе, все же ближе к специальности. Помогать ей было некому – я уходила на войну, потом заканчивала институт. Изредка, тайком, приезжала ко мне в Москву – теснились в моей комнатенке-гробике на детской кроватке – кровати братика, единственно сумевшей вместиться в мои шесть с половиной квадратных метров. Говорила, что если бы дожили вместе до войны, то, отправив нас, детей, в эвакуацию, обязательно ушла бы с отцом на фронт. Он был комбригом запаса, и она ни минуты не сомневалась, что он сделал бы все, чтобы в первые же дни войны уйти в Действующую армию. Надеялась, что папа жив, – какие-то смутные вести, слухи доходили до них в Темники – кто-то с этапа или из тюрьмы привозил какие-то туманные сведения. Несчастным женщинам так хотелось верить, что их мужья живы... Мама не была исключением.
Однажды призналась, что бывало так нестерпимо голодно, что в столовых, таясь от людей, доедала из тарелок остатки еды... Мне и сейчас нестерпимо горько и больно рассказывать об этом...
Неусыпное внимание органов сопровождало всю её жизнь в Александрове. Кое-что я узнала из её рассказов, главное прочла в её деле и, косвенно, в своем.
Забегая вперед, должна сказать, что читая свое дело, я, естественно, не нашла там агентурных разработок на себя, проще – доносов. Их, перед тем, как допустить меня к чтению дела, конечно, предусмотрительно изъяли. В конверте основной папки, в котором хранились «вещдоки», приобщенные к делу, нашлась рукописная тетрадь моих стихов, несколько печатных их подборок и «меморандум» (так, оказывается, это называется) на другого человека, довольно пухлый – страниц 10-12. Обнаружив его, я спросила офицера, знакомившего меня с делом, что это? Он слегка смутился, но быстро нашелся – «случайность», «недосмотр в спешке», «ошибка», «перепутали». Я догадалась, что, изъяв «меморандум» на меня, его заменили чьим-то подходящим по объему. Это делалось, видимо, со всеми, чтобы читающий свое следственное дело не мог вычислить тех, кто на него доносил. Я не стала огорчать моего «куратора» своими догадками по поводу этой «случайности», потому что обнаружила в конверте еще один «меморандум», поменьше – на 2-3 страницы. То, что он там остался, было, вероятно, действительно случайностью, а впрочем...
Может быть, майор Александр Викторович, знакомивший меня с делами отца, матери и моим, успевший к этому моменту прочесть мою «Щепку», проникся сочувствием ко мне и к поставленной мною себе задаче – написать расширенный ее вариант – и «не заметил» эти несколько страничек. Так или иначе, с помощью их я получила представление» о том, что представляют собой «агентурные разработки»:
Крупно заголовок «МЕМОРАНДУМ», ниже две строчки: «компрометирующие материалы на Тамарину Р. М. по делу формуляр № 1832». Далее листок разграфлен: графа слева, поуже – «источник и дата», справа – «содержание материала». Источник «Овод» цитируется трижды: 26.1Х.44, ЗО.Х.44, 27.XI.44. Источник «Виноградова» – XI. 4 4, они рассказывают о встречах с моей мамой, приводят ее разговоры обо мне, о моем и мамином знакомстве с тем американским корреспондентом Робертом Магидовым, которое и было главным моим обвинением. Совершенно очевидно – маму «вели», за ней следили, так же, как и за мной, какие-то близкие ей женщины, с которыми она доверительно делилась. И вот результат этой доверительности:
23 мая 1946 года мама подает заявление о снятии судимости, по-видимому, тогда существовала такая мера поощрения для особо благонадежных. Не чувствуя за собой никакой вины и будучи дисциплинированной ссыльной, мама, видимо, последовала примеру многих своих товарок – такая льгота давала право жить со своими детьми в Москве. Но не тут-то было!.. Документ привожу полностью:
Совершенно секретно
Начальнику Александровского ГО Владимирской области
майору милиции тов. Чумакову
Тамарина Тамара Михайловна в 1938 году была осуждена Особым Совещанием при НКВД СССР как член семьи изменника Родине на 5 лет и после отбытия срока наказания прибыла на жительство в г. Александров. До последнего времени имеет связь с иностранцем МЭГГИ (Магидовым), подозреваемым в ш/п деятельности.
Тамарина нами уличена в разглашении государственной тайны.
Против снятия судимости с Тамариной ВОЗРАЖАЮ.
Зам. нач. Александровского ГО МГБ капитан Ширяев
Дата: июнь 1946 г.
К «разглашению» мамой «государственной тайны» я еще возвращусь позже, подробно рассказывая о своем следствии. Далее в ее деле – Справка о проверке просьбы о снятии судимости от 14 августа 1946. 8 марта 1947 года ей отказали в этой просьбе. 25 октября 1947 года она умерла в г. Александрове.
Мне кажется, что комментировать подробности следственного дела мамы нет нужды. Скажу только, что в дни, когда я читала наши дела на Лубянке, 14, эта приемная ни минуты не пустовала. В день сюда обращалось по 20-30 человек, в иные дни, видимо, и по 50. Все это были дети и внуки, прямые родственники посмертно реабилитированных. Иногда приходили и сами реабилитированные – пожилые усталые люди, у большинства из которых были так же, как у меня, в 1937-38 годах репрессированы родители...
Господи! Сколько же нас всех вместе с погибшими нашими отцами и мамами было?!. Если спецприемная на Лубянке, 14, работает ежедневно с 9-ти до 18-ти, кроме субботы и воскресенья, и вежливые, внимательные, вышколенные офицеры госбезопасности, дежурящие там, почти не имеют простоев и передышек...
* * *
Весной 39-го я закончила десятилетку, подала документы и стихи в Литературный институт, и, пройдя творческий конкурс, была принята.
Когда я уже несколько лет жила без родителей, училась, одновременно работая, и досыта наедалась лишь одной любимой чечевичной кашей, мне в институте дали шутливое прозвище «Девочка с плаката» – и не только мой здоровый вид и яростная краснощекость были тому причиной.
Я была дитя своего времени по всем параметрам – первой в классе вступила в комсомол, едва исполнилось 14 лет. И хотя через два года, в 37-м, меня, как дочь «врага народа» исключили из комсомола за то, что я не отказалась от отца (одноклассники стыдливо не поднимали на меня глаз, хотя исправно подняли руки за исключение – тогда уже комсомольцами были почти все, начался «массовый охват» по разнарядкам), я все равно всегда была общественницей, членом редколлегии сперва школьной, а потом и институтской стенных газет.
В каждой из московских школ в те годы был комсорг ЦК комсомола, своего рода политкомиссар. Был такой и у нас, в 113-й образцовой Советского района Москвы. Звали его Миша Савельев. Вскоре после известного сталинского письма тов. Иванову о том, что «сын за отца не отвечает» (отвечали, и еще как! Своими жизнями...), этот Миша сказал мне – «Что ж ты, Тамарина, обижаешься на комсомол? Почему не подаешь заявление о восстановлении?..» Я, конечно, сразу же подала такое заявление, и ребята снова дружно проголосовали «за», но глаза в этот раз не прятали...
А много лет назад, в 1984 мне в Алма-Ате неожиданно передали привет от одноклассницы, близкой моей подруги Вали Саломатовой – она услышала по радиостанции «Маяк» короткую информацию о поэтическом вечере в Алма-Ате, в котором и я принимала участие, и так узнала, где я живу. Когда, вскоре, приехав в Москву, я встретилась с нею, она собрала несколько наших одноклассников. И во время этой встречи я с немалым удивлением узнала, что Андрей Дмитриевич Сахаров кончал именно нашу, 113-ю образцовую. И хотя из его класса я знала только двоих – Мишу Швейцера, ставшего впоследствии одним из самых замечательных и известных кинорежиссеров, и Машу Асмус, дочку известного ученого Валентина Фе-рдинандовича Асмуса, преподававшего у нас в Литинституте логику, философию, эстетику (а Маша во время войны поступила в наш институт на наш курс), я почему-то очень возгордилась этим, в общем-то совершенно случайным совпадением. Но школа была очень хорошая...
Так случилось, что в 10-м классе я случайно познакомилась со студентами-старшекурсниками Литературного института, тогда же пришла и первая любовь, и, конечно, я отошла от всех школьных дел, писала много стихов: как водится, Великая Юношеская Любовь была трудной, а тяга к стихам, видимо, и начинается с неразделенной любви...
Часто бывая в институте на вечерах, дружа со старшекурсниками, поступать в него я и не собиралась – тянуло в медицинский и манил романтикой геологический...
В качестве «главного школьного поэта» меня послали в районный Дом детского творчества, где должны были отбирать стихи для поэтического сборника московских школьников в подарок готовящемуся XVIII съезду партии. Такие «подарки» были в порядке вещей в те времена, и это был еще один способ оболванивания людей. И, видимо, оттуда пошла и дурная традиция приурочивать к «датам» те или иные достижения. Даже полеты космонавтов долго приурочивались к различным торжественным датам, а стихи, сочинявшиеся иногда даже хорошими поэтами «по случаю», так и обозначались в просторечии – «датские».
Впереди- ГУЛАГ...
Там, в Доме детского творчества я и познакомилась с преподавателем литинститута Василием Семеновичем Сидориным. Никто из школьников, кроме меня, на эту встречу не пришел, а Василий Семенович, прослушав мои стихи (в основном о неразделенной любви), предложил свою помощь, если все. же решу поступать к ним. И с этого дня в меня вселилась какая-то необъяснимая уверенность: когда меня спрашивали, куда я хочу поступить, я отвечала – «буду учиться в Литинституте!» Но, забегая вперед, скажу, что к Сидорину я так и не решилась обратиться, а поэт Владимир Александрович Луговской, «дядя Володя» (так звали его мои друзья-старшекурсники, обещавшие меня с ним познакомить, когда узнали, что я пишу стихи), оказался болен в ту зиму.
Здесь надо вспомнить добрым словом этих моих друзей – Римму Слоним и Яшу Кейхауза. Меня привел к ним их однокурсник по Литинституту, молодой талантливый поэт, впоследствии ставший довольно известным.
Их комната в коммуналке одного из домов во дворе за площадью Маяковского (ныне снова Триумфальной), стала мне скоро родимым домом, благо и расположена была неподалеку от моей школы. Частенько вместо того, чтобы ехать после уроков домой, к Курскому вокзалу, или обедать к тете на Нижне-Красносельскую, я прибегала к ним – дневала у них и ночевала. Здесь Яша познакомил меня с поэзией Бориса Пастернака, помог мне, семнадцатилетней, понять и полюбить его, считавшегося тогда официальной критикой «поэтом для поэтов». Здесь, услышав мои первые стихи после рассказа о встрече с В. С. Сидориным, мне сказали, что они – подражание Ахматовой, и долго от души смеялись, когда я гордо возразила, что никогда ее не читала... Римма писала прозу, Яша – стихи и переводил многих персидских классиков. Здесь впервые услышала знаменитый, а тогда полуподпольный перевод «рубайят» Омара Хайяма, сделанный с английского эмигрантским поэтом И. Тхоржевским. Пленительные и мудрые строки все время звучали в комнатке, выкрашенной почему-то в густой и теплый синий цвет. Римма ждала ребенка, и где-то они вычитали, что синий цвет очень успокаивает и полезен будущей матери. Под обаяние Хайяма подпали все, кто бывал в этом гостеприимном «синем тереме» (так впоследствии, уже после смерти Яши от туберкулеза в октябре 45-го, называли этот дом три молодые женщины – я, Вика и Оля, подружившиеся с моей легкой руки с Риммой. В лагере, вспоминая эти послевоенные годы у Риммы с моими однокурсницами, я вычислила, что именно они «помогли» мне и в 45-м, когда меня пригласили в ГБ и вынудили дать подписку
о сотрудничестве, и в 48-м, когда меня арестовали. Впрочем, об этом – в другом месте...)
Увлечение Омаром Хайямом имело и забавные последствия – Яша много работал над переводами персидской классики. Поэзия Хайяма была для него школой, а особенно – блестящие переводы Тхоржевского. Но, как это часто бывает в среде талантливой молодежи, появились шутки, хохмы, пародии. Кроме занятий переводами, Яша подрабатывал литературной консультацией в издательстве «Молодая гвардия» – отвечал на «самотёк» – бич всех редакций и издательств. Впоследствии и я занималась тем же в этом издательстве. И однажды он получил письмо, где его фамилия была забавно искажена – его назвали «товарищем Пейфаусом». И тогда появился цикл «руфайятов» (производное от моего имени) Омара Пейфауса. Я не помню всех перлов этой шуточной поэтической коллекции, но один время все же сохранило в памяти:
Ты просишь света – получаешь тьму.
Но отчего ж темно в твоем дому?
Что, если б вовсе не было Могэса?
Известно только Богу одному...
Именно в доме Риммы и Яши я впервые увидела Ярослава Смелякова и познакомилась с ним – это тоже было открытием поэзии. Но о Ярославе нельзя рассказывать кстати и между прочим – слишком крупное он был явление и как поэт, и как личность. О нем тоже в другом месте, в свой черед...
Яшины стихи запомнились всего несколькими строчками, но и они свидетельствуют, каким талантливым поэтом он был:
...и Крымский мост, похожий на прыжок
взлетающего ласточкой спортсмена...
...Хорошо нам живется иль худо,
не разучимся мы никогда
удивляться пришедшим «оттуда»
и бояться ушедших «туда»...
Это из стихотворения, написанного к рождению сына Мити.
Здесь, в синей комнате, в ночь на 1940-й год провожали добровольцев на финскую войну, и глуховатым баритоном Яша читал посвященные друзьям стихи:
Вдоль тахты и стульев тесно сдвинут
письменный с обеденным столом.
Веселясь, грустя наполовину
тихо мы вино в стаканы льем.
А в углу грустят на ветке длинной
легкие стеклянные шары,
хрупкая игрушка-балерина,
стеарин, потекший от жары.
Пусть тому, кто с ветки снял на память
тоненькую девочку с мячом,
на привале другом будет память
и мороз финляндский нипочем...
...Однажды я прочла в «Литературной газете», не помню уже, в чьем материале – то ли Льва Озерова, то ли Льва Ошанина, несколько добрых слов о Якове Кейхаузе, начинавшем тогда перед войной славную и трудную работу по переводу тюркской классики. Если бы он дожил до наших дней, то наверняка имя его заняло бы достойное место в когорте таких замечательных переводчиков, как С. Липкин, А. Тарковский, В. Левик... Мне здорово повезло, что взрослая моя, послешкольная юность началась в этом добром теплом доме друзей – Риммы и Яши...
Окончив школу, я просто подала документы и стихи в Литинститут и одновременно пошла работать счетоводом на склад Московского завода малолитражных автомобилей, расположенный неподалеку от дома моих литинститутских друзей – на Миусской площади.
В обеденный перерыв я исправно и регулярно спускалась на троллейбусе до Пушкинской площади и справлялась в институте о своих абитуриентских делах. Величественная секретарша учебной части, «легендарная», как потом я убедилась, Вера Эдуардовна Николаева, даже «не повернув головы кочан», отвечала односложно «нет» на все мои расспросы. (Позже, учась в Литинституте, я имела возможность убедиться, что несмотря на свой неприступный вид и всяческие анекдоты вокруг нее, она была человеком и отзывчивым, и умным...)
Но однажды в середине августа я заглянула вечерком к знакомой молодой паре (он географ, студент МГУ, она – молодой композитор, студентка консерватории), и они ошарашили меня сообщением, что я принята в Литинститут.
– Странно, – сказала я, – вам-то это откуда известно?
– Объявили в «Последних известиях» по радио...
Я в ответ рассмеялась:
– Сегодня не первое апреля, и нечего меня разыгрывать!..
Но они настаивали, что своими ушами слышали сообщение о новом пополнении Литинститута, и для пущей убедительности назвали имена еще двоих, тоже упомянутых – прозаика Евгении Леваковской и поэта, студента юридического института, Бориса Слуцкого. Позже, уже учась в институте, я узнала, что подобная «информашка» вполне могла иметь место, как приработок кого-то из старшекурсников.
Своим друзьям я не очень поверила, но все же на следующий день снова во время обеда поехала на Тверской бульвар, в Дом Герцена. По дороге встретился один из знакомых студентов, разулыбался:
– Поздравляю! Вас приняли...
Но я все же решила удостовериться в учебной части. Вера Эдуардовна, засияв мне навстречу самой приветливой из гаммы своих разнообразных улыбок, заворковала:
– Руфочка, а я вам уже открытку отправила – 25-го августа приходите на экзамены...
Дело в том, что выдержала творческий конкурс – 30 человек из четырехсот, но сдавать приемные экзамены должны были всего двенадцать, те, у кого не было не только законченного, но и незаконченного высшего образования. И вот мы толпимся перед дверью аудитории, где нам предстоит писать диктант, и настороженно и с любопытством присматриваемся друг к другу, особенно мы, трое вчерашних школьников – я, Шура Петряев и Володя Степаненко. Пытаемся скрыть волнение, разглядывая будущих однокурсников. И, наверное, именно от волнения я никого, кроме двоих, не запомнила, а может быть и потому, что они резко выделялись среди всех – общительный, круглолицый, веселый Арон Копштейн, чем-то напоминавший Ламме Гудзака, и худенький высокий юноша Шура Петряев.
Большие, не по возрасту огрубевшие, «рабочие» кисти рук (пиджачок был старенький и куцый, и рукава Шуре коротки) как-то не соответствовали внимательному и почему-то даже настороженному взгляду темных глаз... У привлекшего мое внимание паренька был вид парня из московской шпаны. Именно по челочкам, тельняшкам и громадным клешам они отличали в то время друг друга, как нынешние юные «фирмачи» – по джинсам с «лейблами» и прочим «фирменным» приметам. Я поглядывала на Шуру и думала, что лучше не попадаться такому пареньку в сумерках тихих окраинных переулков или скверов...
Как выяснилось на следующий день, диктант написан был плохо – девять «неудов» и три «хора». Мы, трое вчерашних школьников и «примкнувший» к нам Арон Копштейн, ходили как привязанные за Мишей Эделем, тогда парторгом Литинститута и старшекурсником, а впоследствии известным писателем-сатириком, и канючили: «Что же нам делать? Август кончается, и мы уже не успеем никуда подать документы...». Мы не знали еще, что на «хорошо» написали Шура, Арон и я. Арон, конечно, не канючил. Он водил нас куда-то кормиться в перерывах между экзаменами, громогласно заявляя о срочной необходимости потратить какой-то большой гонорар (он был уже известным на Украине поэтом, автором нескольких сборников. Мы же, еще не зная тогда, какой это добрый, отзывчивый человек, стеснялись его громкогласной доброты).
Два дня сдачи экзаменов (по два в день) подружили нас. И когда начались занятия, мы с Шурой часто садились рядом, но должна признаться, не столько вслушивались в лекции и вели конспекты, сколько переписывались друг с другом.
Наш взаимный интерес был естественным – сходство судеб (у него тоже был арестован отец), типичных для многих в те годы, ранняя самостоятельность и то, что мы оба писали стихи. Этот показавшийся мне сперва «шпаной» юноша, почти мальчик, оказался не просто воспитанным и интеллигентным, но и образованным, начитанным, превосходно знающим и классическую русскую литературу, и современную – от открыл мне строгую лирику раннего Николая Тихонова, по-новому открыл Грина и Паустовского. Но больше всех он любил Джека Лондона. Короче говоря, он был законченным романтиком – в самом высоком и благородном смысле. Не по возрасту взрослые кисти рук были и вправду руками рабочего – они умели собрать лодочный мотор, починить мотоцикл, управлять парусами на яхте...
На курсе нас считали влюбленными и добродушно посмеивались: Арон Копштейн регулярно публиковал в знаменитой нашей стенгазете, занимавшей всю стену короткого светлого коридора, пародийные, шуточные «письма из армии» в стихах «А. Петряев – Р. Тамариной». Помню две строчки, которыми заканчивалось одно из писем о том, что в армии Шура стал «сильно зашифрованным» и вместо подписи там было написано:
...Энская таинственная особь,
не могу фамилии назвать.
Весь курс знал, что Шуру вот-вот должны призвать на действительную службу в Красную Армию.
Институт в ту пору был вечерним, и каждый раз после окончания занятий получалось, что Шуре со мной «по дороге», в какую бы сторону я ни шла. О чем только ни говорили мы этими осенними вечерами, бредя по блестящему мокрому асфальту, по отражениям бесчисленных московских огней... Это были разговоры о литературе, о жизни, о нас... Об одном, кажется, мы не говорили – о том, что ему предстоит идти в армию. В эти же дни неожиданно вернулся Шурин отец: ему повезло – недавно сняли наркома НКВД Ежова, и новый, Берия, «мягко стелил» для начала – многих, кто был взят во второй половине 38-го, осенью 39-го выпустили... Пролетели – сентябрь, октябрь... В конце ноября или начале декабря – точно не помню – Шуру, наконец, призвали: как известно, в 1939 году была объявлена Всеобщая воинская повинность, и мальчики, наши ровесники, знали, заканчивая школу, что их осенью призовут. И все же многие стремились поступить в вузы, чтобы после армии в них вернуться. Вернулись немногие, и не после армии, а после войны...
Вскоре начали приходить письма с Дальнего Востока. Почему-то москвичей того призыва отправляли именно на Дальний Восток. Вот и Илья Лапшин, о котором вспоминал Вячеслав Кондратьев и с которым я тоже была немного знакома по семинару Сельвинского (Илья был длинный, рыжий, очкастый и невероятно интеллигентный парень. Он заикался и немного грассировал – он писал о Германии, о том, что в городе классической немецкой интеллигенции торжествуют фашистские митинги и жгут книги. Стихи были короткими, энергичными, слово «Нюрнберг» он произносил как-то очень протяжно и одновременно раскатисто, но наизусть я его стихов, к сожалению, не запомнила), тоже попал на Дальний Восток, и сам Кондратьев – тоже. И служили, может быть, в соседних частях с Шуриной частью, но, видимо, так и не случилось познакомиться.
Письма Шура писал длинные, но мне они казались короткими, такими они были интересными. Они являли духовный портрет молодого человека, счастливого самой возможностью жить и радоваться своей трудной армейской жизни. Помню, он называл в письмах жизнь – Игрой. Под этим словом, под этим понятием подразумевался высокий благородный риск, как у героев любимого им Джека Лондона.
К сожалению, в разнообразных обстоятельствах моей жизни у меня не сохранилось почти никакого архива. Не сохранились и письма Шуры Петряева.
Он служил на Дальнем Востоке до июля 1941 года. Там он окончил школу младших командиров, а потом стал лейтенантом-артиллеристом. Не помню дословно открытки, присланной им в июле или августе из эшелона по дороге на фронт, с обратным адресом «Действующая армия», еще даже без номера полевой почты. Но содержание ее помню очень хорошо: открытка была шутливая, со множеством восклицательных знаков, однако за удалым «Трах-бах-ба-ба-бах!!! Наконец-то едем на фронт!!!» читалось многое – готовность к бою и даже нетерпеливая жажда – поскорее бы! В ней была и мальчишеская бравада, и – так мне сейчас кажется – даже тайная горечь предчувствия возможной гибели.
Александр Петряев погиб под Малоярославцем в самое трудное, самое опасное время.
* * *
1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. Но для меня этот день знаменовал всего лишь начало первого студенческого года. Здесь нет места, да, пожалуй, и нет нужды подробно описывать, какими прекрасными были два первых довоенных студенческих года. Прекрасными они были, конечно, очень субъективно – ведь уже повсюду в Европе шла война с гитлеровцами. На эти годы пришлись и короткая, но жестокая финская кампания, и моя поездка к маме на свидание в Темниковские лагеря весной 40 года...
Неистребимая сила жизни, особенно остро ощущаемая в юности, а может быть, даже какой-то инстинктивный эгоизм молодости – спасали, хотя бывало неимоверно трудно, и голодно, и неустроенно. Но это была юность с ее очарованиями... Потом я попыталась сказать об этом в одной из тех глав поэмы «Новогодняя ночь», которые увидели свет только в 87-м году («Простор», № 10):
Во что я верила? Не знаю.
Наверно в то, что я жива,
что льется в окна звон трамвая,
что воскресает вновь листва,
что день упруг, что шумен город,
что много будничных забот,
и что ожог любого горя
когда-нибудь да заживет...
А пока – узкие коридорчики Литинститута, тенистый сквер перед Домом Герцена, неоднократно вспоминаемые бывшими студентами. Но лучше всего атмосферу передала одна из литинститутских шуточных песенок, написанная, кажется, Максом Поляновским году в 43-м – 44-м:
Знакомые дорожки и тропинки,
И коридоров тесненький уют:
Здесь гении в истрепанных ботинках
Великое искусство создают.
Здесь Пушкиных рождает сам Сельвинский,
Прозаиков Леонов создает.
Корнелий Люцианович Зелинский
На критику патенты выдает.
Пусть Тимирязев повернулся задом
И Пушкин прикрывает шляпой зад, –
Сыны Лицея будут только рады,
Что гении за ними не следят.
(Тогда памятник Пушкину еще не перевезли с Тверского бульвара на другую сторону площади, и он стоял в конце бульвара лицом к ней, а к бульвару и соответственно – к Литинституту – спиной. А на другом конце Тверского и до сих пор стоит памятник Тимирязеву лицом к Никитским воротам и тоже – спиной к бульвару.)
Первокурсники, писавшие стихи, автоматически зачислялись в семинар к Владимиру Александровичу Луговскому. Только что в московских журналах опубликованы его новые стихи – «Курсантская венгерка» и «Девочке медведя подарили...» – я очарована этими стихами, так же как и мои товарищи по семинару – москвич Шура Петряев, одессит Виктор Бершадский и другие...
И сам Владимир Александрович – большой, красивый, рокочущим своим басом рассказывает о геральдике – о гербах, о значениях геральдических символов – неподдельная, настоящая романтика!.. А на доске объявлений небольшая бумажка: Студентам 1 курса Б. Слуцкому, Р. Тамариной (третьего я не помню) явиться на семинар к И. Л. Сельвинскому в Гослитиздат такого-то сентября, к такому-то часу).
В назначенное время являюсь – большая комната, скорее всего кабинет директора: длинный стол со множеством стульев вокруг и кожаный диван. На столе стаканы горячего ароматного чая, на тарелках горки бутербродов: маленькие французские булочки (потом в период борьбы с «низкопоклонством перед Западом» их переименуют в «городские», и такими они останутся и до сего дня) с поджаренной корочкой над ложбинкой посередине – с сыром и розовой колбасой – запах неописуемый: народ собирается после работы вечером, в большинстве – голодноватая студенческая молодежь, но были кое-кто и постарше, например, Александр Яшин, Лена Ширман.
Илья Львович – крупный, в больших роговых очках. Звучит неповторимый тембр низкого волнообразного голоса, которым он владел в совершенстве, особенно когда читал стихи... Но здесь лучше привести слова поэта Льва Озерова – его ученика и друга: «Он читал так, что звук его голоса рисовал картины: охота, бой, степь, моря, горы. Он набрасывал портреты, жанровые сценки, пейзажи – масло и акварель. Из своей груди поэт исторгал то глубинный виолончельный распев, то гитарный аккорд, то рассветный птичий голос флейты... В молодые годы Ильи Сельвинского этот голос называли «колоратурным басом». Он не нуждался в усилителях. От шепота до гула этот голос был внятен на площади в час митинга и в концертном зале во время сольного выступления... Читая, поэт как бы строил здание... Архитектоника продумывалась до мельчайших деталей...»
Я еще не знала тогда, что именно Илья Львович решил судьбу моего поступления в Литинститут – к нему попали мои стихи, пройдя два первых тура. Стихи были еще очень и очень неумелыми, наивными, но и очень непосредственными. И, вероятно, в них была правда и сила чувства, да, может быть, и характер:
...Люди ходят по лужам скользким,
по заре, отраженной в лужах...
Ты в любви объяснялся скольким,
и как мне, так ли был им нужен?
Ветер плачет. Капели-слезы
бьются крыльями по стеклу.
И вот хочешь ли ты, не хочешь, –
я тебя все равно люблю!
С этими стихами и еще несколькими о том же, я и была принята в Литинститут и потом приглашена на семинар в Гослитиздат. Вероятно, своей краснощекой юностью я выделялась среди его участников – может быть, поэтому – или просто потому, что новенькая, – на организационном занятии было решено первыми обсуждать мои стихи. Была дана команда принести их заранее, их там же, в издательстве, распечатали в нескольких экземплярах и на ближайшей встрече стали обсуждать.
Наверное, и вправду они были симпатичны участникам семинара – после того, как я прочла их вслух, меня начали в основном хвалить. Лишь один юноша – темноволосый, с глубоко посаженными темными глазами – выступил довольно резко. Он сказал, что не надо захваливать девчонку, а надо ей объяснить, что взялась за серьезное дело, что почти еще ничего не умеет... Это был Павел Коган, студент ИФЛИ в ту пору, и я вышла, когда закончился семинар, с его компанией – Сережей Наровчатовым, Изей Крамовым, Лелей Можаевой...
Еще помню, как на семинар опоздали Сергей и Изя – уже кого-то обсуждали активно и бурно, когда раздался стук в дверь, и в дверном проеме, как в раме картины, возникли два красавца: синеглазый, светлорусый, с волнистым чубом, слегка коренастый Сергей Наровчатов и обаятельный, с курчавыми темными волосами и веселыми светлыми глазами Изя Крамов. Оба статные, в лётных комбинезонах, с парашютными значками на груди, перетянутые в талии командирскими ремнями, и, слегка рисуясь и поигрывая юношеским своим баском, Сережа просит извинения за опоздание:
– Простите, Илья Львович, не было попутной машины с аэродрома...
Впрочем, об этом случае и о некоторых других на семинаре Сельвинского есть уже другие воспоминания, в том числе и у самого Наровчатова. А я не очень давно написала такие вот стихи:
Мои воспоминания написаны
совсем не мною, и давным-давно.
Детали и подробности нанизаны
там, словно в ленте давнего кино.
А я, увы, совсем не помню частностей
и дневников к тому же не вела.
У жизни – поясню для пущей ясности
я жадно все подробности брала
в судьбу свою: и все, что ни случалось,
меня лепило, словно глины ком –
с любимыми навеки расставалась,
по льду судьбы летела босиком...
Теряя в жизни все, что только мыслимо –
родителей, и брата, и дитя,
каким-то чудом я сумела выстоять,
надежду на спасенье обретя...
Мои воспоминания написаны
совсем не мною, и давным-давно...
Как в жизнь чужую, – вглядываюсь пристально
в свою, как в чье-то дальнее окно...
Но вернусь в предвоенный институт, где в ту пору собралась поистине «могучая кучка» поэтов: в семинаре у Сельвинского занимались Александр Яшин и Елена Ширман (расстрелянная гитлеровцами при взятии ими Ростова, о ней расскажу чуть позже), Михаил Львов, Борис Слуцкий и Михаил Луконин, Евгений Агранович, Миша Львовский и Миша Кульчицкий. Из МГУ на семинар приходил студент исторического факультета Коля Майоров, из ИФЛИ – Давид Самойлов, Павел Коган и Сергей Наровчатов. В 40-м году, когда Сережа, уходивший добровольцем на финскую войну, вернулся, они с Павлом и двумя девушками – Леной Ржевской и Викой Мальт – перешли в наш институт насовсем. Бывали на этом семинаре погибшие потом на войне студенты-заочники Илья Лапшин и Евгений Поляков, оба очень талантливые, но, к сожалению, мало потом известные. Ходили на семинар к Сельвинскому молодой Коля Глазков, придумавший новое поэтическое направление – «небывализм» (писать о том, чего не бывает), и Ксения Некрасова – круглолицая и тонкоголосая, как будто сошедшая с картины Венецианова. Можно с полным основанием сказать, что самая интересная молодая поэзия Москвы была сконцентрирована в этом семинаре. Правда, не только в этом. Часть поэтов занималась параллельно в семинаре Павла Григорьевича Антокольского. Но я почему-то, не помню уже почему, – там не бывала.
Это я вспоминаю уже не о гослитовском семинаре Сельвинского, а об институтском, где я стала заниматься у него со 2-го курса. Еще бегала на семинары Леонида Максимовича Леонова – там было интересно: кто-нибудь из студентов прочтет рассказ, а после его разбора Леонид Максимович предлагает присутствующим придумать свои варианты этого рассказа, а завершает занятие своей блестящей импровизацией. А Сельвинский иногда читал лекции по теории стиха, но чаще обсуждали кого-то из поэтов. А иногда он давал задания – например, за два семинарских часа написать сонет о белом рояле. Это многие запомнили и уже рассказали, но у меня есть своя версия. Все старались кто как мог, и я тоже что-то такое насочиняла. Выслушав всех, Илья Львович прочел свой сонет. Спустя много лет, в лагере, я сперва услыхала по радио, а потом нашла в нашей библиотеке его поэму «Лебединое озеро» – в одной из строф я узнала его «Сонет о белом рояле» – это было как встреча с добрым другом там, где и подумать об этом было невозможно:
Большой рояль, от блеска бел,
Подняв крыло, стоял, как айсберг,
Две-три триоли взяты наспех...
Нет, не рыдал он и не пел:
Дышал! И от его дыханья
Рождалось эльфов колыханье,
Не звук, а музыкальный дым
Ходил над блеском ледяным...
* * *
О поэтах той «могучей кучки» из предвоенного Литинститута есть много воспоминаний, опубликованы посмертные поэтические книги тех, кто не вернулся, а вернувшиеся с войны стали поколением фронтовых поэтов. Поэтому здесь я вспоминаю лишь о троих малоизвестных, почти забытых: Александре Петряеве, Елене Ширман, Евгении Полякове. Это мой человеческий и литературный долг – напомнить о том, какими они были, показать хоть немного их талантливые стихи. Хочу здесь, кстати, и напомнить, что все поэты из предвоенного Литинститута (по крайней мере, большинство) ушли на фронт добровольцами, ни дожидаясь военкоматских повесток. Что сам Сельвинский опубликовал их до войны всего лишь единожды – в одном из номеров журнала «Октябрь» за 1940 год общей подборкой; они без всякой надежды и возможности публиковаться писали такие стихи, которые потом стали именоваться «гражданственными». Они понимали неизбежность войны с фашизмом, и стихи их были полны революционным, антифашистским пафосом, и это было личной духовной жизнью каждого из них и их лирикой...
Борис Слуцкий написал потом о своем друге Мише Кульчицком, погибшем под Сталинградом:
Одни верны России потому-то,
другие же верны ей оттого-то,
А он не думал – как и почему.
Она – его поденная работа.
Она – его хорошая минута.
Она – была Отечеством ему.
Эти строки можно отнести ко всем поэтам, не вернувшимся с войны – известным уже и еще не известным: Николаю Майорову и Павлу Когану, Михаилу Кульчицкому и Александру Петряеву, Евгению Полякову и Елене Ширман...
Елена Ширман – поэт, студентка Литературного института, расстреляна гитлеровцами в августе 1942 года под станицей Буденновской в Ростовской области. Она была редактором ростовской сатирической газеты «Прямой наводкой», и единственным имуществом, которое она взяла с собой, уходя из Ростова, был чемоданчик с материалами газеты – карикатурами и острыми, язвительными стихами и заметками. О ее стойкости во время, предшествовавшее расстрелу, стало известно из рассказа хозяйки дома, где Лену арестовали, и из воспоминаний человека, видевшего, как ее допрашивали, человека, которому удалось спасти ее дневник, отобранный при обыске...
О жизни и гибели Елены Ширман рассказано в повести Татьяны Комаровой «Старости у меня не будет...», выпущенной в 1967 году Ростовским книжным издательством. Там же напечатано и послесловие Ильи Львовича Сельвинского, где он написал о Лене: «Елена Ширман делала большое боевое дело. Я преклоняюсь перед героизмом Елены, она погибла, не унизив страхом ни себя, ни Родины...» И о ее поэзии он написал: «...Она широка и отважна... Перед нами замечательный поэт, сочетающий в себе философский ум с огромным темпераментом и обладающий при этом почерком, имя которого – эпоха».
В 1969 году в издательстве «Советский писатель» вышла посмертная книга стихов Елены Ширман «Жить!», но всего лишь десять тысяч читателей получили возможность узнать, каким талантливым поэтом она была.
Я познакомилась с Леной, когда в 1939-году поступила в Литинститут. Женщин, писавших стихи, в ту предвоенную пору в Литинституте было очень немного. Может быть, это издержки моей дурной памяти, но кроме Лены я никого и не помню. Лена, всегда тяготевшая к молодым, юным (она даже придумала воображаемую страну «ЮНО» – республику юности, когда работала в пионерских газетах – сперва в ростовских «Ленинских внучатах» с 1930 года, потом в Москве – литературным консультантом «Пионерской правды». В повести «Старости у меня не будет...» об этом рассказано подробнее). Потянулась она и ко мне. И я, ничего не знавшая тогда о ней и стране «ЮНО», все равно почувствовала это стремление Лены быть рядом с юностью – мы подружились, несмотря на большую разницу в возрасте – мне было 18, а ей – 30 лет.
В маленькой комнатушке переделкинского институтского общежития, куда я к ней приезжала, Лена открывала мне поэзию нашего учителя Ильи Сельвинского, ночи напролет читая наизусть его «Уляляевщину» и стихи других любимых поэтов – Маяковского и Хлебникова. Ее собственные стихи казались мне тогда излишне сложными. Со всей самонадеянностью восемнадцати-девятнадцати лет (а самонадеянность весьма часто соседствует с невежеством, и это был как раз мой случай) я советовала: «Пиши проще, понятней, доходчивей...» Как это ни странно, Лена выслушивала мои советы без раздражения и обиды – вероятно, мудрый материнский инстинкт (детей у нее не было, отсюда, наверно, и тяга ее к юным) подсказывал ей, что не стоит всерьез принимать суждения «несмышленыша». Более того, спустя много лет в повести о Лене я прочла в одном из ее писем очень даже лестное суждение о себе тогдашней, и, рискуя показаться нескромной, все же хочу привести его, так как в нем речь идет об одном интересном факте, напрочь мною забытом: «Не поехала в Переделкино. Осталась ночевать у Руфи. Чудесная дивчина! Легкая, смелая, искренняя. Да, небольшое дельце. Мы с нею подали заявление Эделю (секретарю парторганизации института), чтоб нас послали в Финляндию...»
Это письмо написано 9 января 1940 года. Мы только что проводили наших институтских добровольцев на финскую войну, ездили к ним в Подольск, где формировался лыжный батальон и они проходили боевую подготовку. Поездку эту я помню хорошо: четверо студенток с разных курсов – Лена, Шура Савчук, Женя Усыскина и я – повезли ребятам подарки от института.
Арон Копштейн, к тому времени полюбивший Шуру Савчук и сделавший ей предложение, решил объявить в тот день об этом и пригласил всех в единственный, кажется, в Подольске ресторан. По-студенчески шумной компанией разместились за большим столом, мест не хватало – теснились по двое. Заказали какую-то еду, немного красного вина – грамм по сто на каждого. Но студенческая непринужденность и громкие голоса показались кому-то из командиров, гулявших там же, нарушением субординации и, подойдя к нашему столу, он сделал довольно резкое внушение, запретив вино. И хотя ребята были оскорблены тем, что командир не понял их объяснения, решив не обострять отношения, вино в заказе заменили клюквенным киселем (тоже красным), и мы все пожелали «молодым» счастья!
В ту пору я с Шурой дружила, и она признавалась мне, что хотя Арон ей симпатичен и близок, но замуж за него она выходить не собирается – Арон был уже женат, уезжая на учебу в Литинститут, и в Харькове оставил с женой и свою слепую мать. Но тогда, в январский день, когда Арон представил нам Шуру своей женой, она промолчала. А потом стали приходить его письма с фронта к ней с прекрасными стихами – это было как бы новое рождение поэта. Раньше он писал по-еврейски и по-украински. А это были стихи русские, и не только потому, что были написаны по-русски. Хочу привести их здесь почти полностью:
ПОЭТЫ
Я не любил до армии гармони,
Ее пивной простуженный регистр,
Как будто давят грубые ладони
Махорочные блестки желтых искр.
Теперь мы перемалываем душу,
Мечтаем о театре, о кино,
Поем в строю вполголоса «Катюшу»
(На фронте громко петь воспрещено).
Да, каждый стал расчетливым и горьким:
Встречаемся мы редко, второпях,
И спорим о портянках и махорке,
Как прежде о лирических стихах.
Но дружбы, может быть, другой не надо,
Чем эта, возникавшая в пургу,
Когда усталый Николай Отрада
Читал мне Пастернака на бегу,
Дорога шла в навалах диабаза,
И в маскхалатах мы сливались с ней,
И путанно-восторженные фразы
Восторженней звучали и ясней!
Дорога шла почти как поединок,
И в схватке белых сумерек и тьмы
Мы проходили тысячи тропинок,
Но мирозданья не топтали мы.
Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы на войну,
В суровую финляндскую природу,
В чужую незнакомую страну.
И если я домой вернулся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой.
Я стану злым, расчетливым и зорким,
Как на посту (по-штатски – «на часах»),
И как о хлебе, соли и махорке,
Мы снова будем спорить о стихах.
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.
А над землянкой медленный дымок,
"И вечный бой. Покой нам только снится."
Так Блок сказал. Так я сказать бы мог.
Он погиб 4 марта 1940 года, спасая смертельно раненного Колю Отраду, пузатый, неловкий, близорукий... Это случилось на Суо-Ярви Петрозаводского направления, за десять дней до перемирия. Письма со стихами продолжали приходить. И юные женщины, проводившие своих любимых на эту никому не нужную войну, еще две недели после этого перемирия со страхом ждали конвертов с фронта, страшась черных вестей...
А ровно через год, в марте 41-го в дубовой гостиной Дома литераторов состоялся вечер его памяти, где Шура уже принимала как должное обращение к себе как к вдове Копштейна. Тогда и случилось у меня горькое стихотворение «Памяти Арона Копштейна», заканчивающееся строчками: «С них (мертвых. – Р. Г.) хватит того, что их однажды убили, И больше нам незачем их беспокоить...»
С тех пор о судьбе Шуры Савчук, начинающего прозаика с Дальнего Востока, я ничего не слыхала и не знаю.
Финская война – первые ожоги беды, первые смерти тех, с кем еще совсем недавно занималась в одних семинарах, сидела на лекциях. Известие о смерти Коли Отрады и Арона Копштейна пришло на следующий день после заключения перемирия – 14 марта 40 года. А убило их 4 марта: финский снайпер, «кукушка», тяжело ранил Колю Отраду. Близорукий толстый Арон полез его вытаскивать – «кукушка» убил и его. Так и погибли они – рыжий Коля, поэт с замечательной фамилией Отрада, не успевший выпустить ни одной книги своих стихов, и поэт Арон Копштейн, автор многих поэтических книг на украинском и еврейском языках, автор немногих хороших стихов на русском языке, написанных им за два с небольшим месяца финской войны...
А еще через три недели вернулись с войны их товарищи – Платон Воронько и Ваня Бауков, Гриша Цуркин и Михаил Луконин – всех уже и не помню поименно. Ушли 12 добровольцев, вернулись десять. Они шагали по уже подсохшему асфальту московских улиц в подшитых солдатских валенках, меченных лиловым карандашом, чтобы не перепутать при сушке, и от их ушанок и шинелей исходил тот особенный, чуть сладковатый запах солдатских теплушек, который мы хорошо узнали через год с небольшим, когда началась Великая Отечественная...
Кто-то сегодня может спросить, как же это тогда соединялось в вашем поколении – аресты родителей и добровольцы, уходившие сперва на финскую, а потом и на Великую Отечественную? Как соединялись трагические страницы судьбы с романтической влюбленностью в литинститутскую жизнь?
Я не берусь отвечать за все поколение, за моих товарищей-ровесников и тех, кто был старше меня на год-другой. Я могу сказать лишь о себе и догадываться, что так было и со многими другими. Ведь был же опубликован в оттепельные годы «Дневник Нины Костериной», который я читала, как свой, – я не единственная среди детей репрессированных, кто уходил на фронт добровольно. Меньше всего такой порыв был обусловлен стремлением «искупить вину родителей». Насколько мне известно, большинство детей репрессированных не верили в виновность своих отцов и матерей и не отказывались от них. И если личный мой уход в Действующую армию был единственно возможным для меня решением в день 17 октября 41 года, второй день известной московской паники, то для огромного количества таких же, как я, детей «врагов народа» не было альтернативы добровольному уходу на фронт потому, что их отцы и матери не были никакими «врагами народа», а напротив – так воспитали своих детей, что по-иному эти дети и не могли поступить.
Ведь даже финская война, о которой мы сегодня знаем, если не все, то многое, в частности, то, что политически это был Афганистан того времени, то есть отнюдь не интернационалистская, антифашистская война, как в защиту Республиканской Испании, – даже финская война казалась нам тогда справедливой...
То была странная аберрация восприятия, воспитанная в большинстве из нас и дома, и в школе. И, пожалуйста, не забывайте – так близки еще были годы Революции и Гражданской войны, совсем рядом с нами во времени трагически закончилась схватка с фашизмом в Испании. И большинство из нас, родившихся в 20-е годы, по крайней мере, те московские студенты, которых я знала, и многие другие, кого не знала, боялись, что на их долю не достанется подвигов, свершений, того, что можно назвать «звездным часом» поколения, и это, думаю, было убежденностью, святой и чистой, той тягой к романтике, которая почти всегда свойственна молодости.
И еще... Как-то по телевизору видела выступление талантливейшей грузинской кинематографистки – режиссера Ланы Гогоберидзе. Кажется, это было собрание по случаю создания Советской ассоциации женщин-кинематографистов. Не помню уже по какому поводу, Лана воскликнула тогда: «Этот наш проклятый розовый оптимизм!!!» – да, это был тот самый оптимизм, та «тяга к добру, что приводит к несчастью» (Н. Коржавин). По ночам арестовывали старших, а в парках гремела «Рио-Рита», лучшие тенора пели про резеду, цветущую «на газонах Центрального парка», и о том, что «можно галстук носить очень яркий и (подумайте только! – одновременно) – быть в шахте Героем Труда». И весь Зеленый театр ЦПКО им. Горького сразу же после просмотра кинофильма «Цирк» запел – «Широка страна моя родная...». На этот просмотр мы пошли всей семьей – мама, папа, я и братишка, и мы тоже пели, идя с толпой к выходу. И пели на всех демонстрациях «Кудрявую», автор которой был уже расстрелян, как «враг народа», а в песенниках значилось – «слова народные». Совсем как в гитлеровском райхе с песней «Лорелея» на слова Генриха Гейне...
Было ли это ослеплением всего народа? Вероятно – да. Ведь был же ослеплен и немецкий народ постулатами Гитлера. Подобные процессы и есть то свойство тоталитарных режимов, которое делает их тождественными друг другу.
Но уход молодежи в Действующую армию добровольно (и не молодежи – тоже, вспомним московское ополчение) – это не ослепление. Это то естественное душевное движение, те «души прекрасные порывы», которые всегда свойственны юным и которые воспитаны были и в семье, и в школе.
Добровольцы вернулись из Финляндии в конце марта, а в апреле я уже поехала на свидание к маме. Я увидела там то, что спустя много лет описал Ю. Нагибин в повести «Встань и иди» («Юность», № 10, 1987). Так же я ехала «кукушкой» (на этот раз – местный одноколейный состав) от Потьмы, центра Темниковских лагерей, расположенных в Мордовской АССР, до нужного лагпункта; так же открылись мне прямоугольники бараков, обнесенные забором из деревянных кольев с вышками по углам и колючей проволокой поверх заборов. Мне даже в самом дурном сне не могло присниться, что я заглянула тогда в свое лагерное будущее...
...Мама удивлялась пышному, с поджаристой корочкой свежему белому хлебу – «неужели такой пекут здесь?!»; постучала об стол своим «гостинцем» – лепешкой из темной муки, полученной в премию за хорошую работу, сбереженной для свидания со мной. Сердце заходилось от боли, но обе старались не плакать...
Следующий раз я увидела маму только осенью 43-го года, когда она приехала в Москву, хотя жить там она права не имела, как все жены репрессированных из тех, кто уже освободился. Многие из них селились на 101 километре в г. Александрове, чтобы быть поближе к детям, остававшимся в Москве. Ей было всего 51 год, но выглядела она уже совсем старой – незадолго до освобождения переболела тифом, потеряла все зубы...
А весной 40-го года, после свидания с ней, я, закончив 1 курс Литинститута на очном отделении, ко второму курсу перевелась на заочное: надо было идти работать. В 40-м ввели плату за обучение в вузах, от нее освобождали только детей старых большевиков и отличников учебы. Я не была ни тем ни другим. Работать пошла в детскую библиотеку Памяти 1905 года на улице Заморенова, где в школьные времена, чуть ли не с третьего класса была в читательском активе. Работу знала – активистов часто ставили на выдачу книг. К тому времени я уже жила отдельно от Нюры – в том же апреле мы с ней разменялись, и накануне Первого мая я вселилась в крохотную (6 с половиной кв. метров), похожую на гробик комнатку на Большой Семеновской улице, откуда до центра надо было добираться не меньше двух часов на трамвае. На линии свирепствовал страшный твердокаменный старик – трамвайный контролер, а так как я в тот день, уже опаздывая, выскочила из дому, забыв кошелек с мелочью, то вернулась за ним домой, боясь того старика, и теперь уже совсем опоздала на работу – на 15 минут! По Указу об опозданиях и других нарушениях трудовой дисциплины мне присудили платить не помню уж сколько процентов из моей и без того невеликой зарплаты. И все же через пару месяцев я снова опоздала (институт был вечерним, и хотя я перевелась уже на заочное, но старалась посещать лекции, а творческие семинары, которые вели известные поэты, – посещала обязательно и часто возвращалась домой за полночь). На этот раз меня по тому же Указу присудили к двум месяцам исправительно-трудовых лагерей. И, провожая меня из суда в КПЗ, старшая подружка Римма утешала – «Считай, что ты в творческой командировке!»...
От тех двух осенних месяцев в памяти остались изумительные левитановские пейзажи – «в багрец и золото одетые леса» (это были Белые Столбы, где сейчас расположена главная фильмотека Госкино), работа до изнеможения весь световой день и без выходных на уборке кормовой свеклы – испеченная в костре, она превращалась в необыкновенный деликатес...
Спустя много-много лет в старой тетрадке своих стихов, когда-то приобщенной к моему следственному делу и возвращенной мне, когда с ним знакомилась, я нашла стихотворение об этом лагере. Всегда помнила, что хотела его написать. Оказалось – написала. Под стихотворением дата – 41 год, видимо, еще до войны:
...Так начиналась лагерная жизнь –
«Шахерезада» пела, а воровки
нас крыли матом. Часовой с винтовкой
зевал, устав за смену сторожить.
И койки, застеленные матрасом,
казались откровением, и мы
к ним привыкали исподволь, не сразу,
как к свету — выходящие из тьмы.
Нам осень подарила краткий «срок»
и не было причин для огорчений.
Но суета барачных вечеров
расстраивала часто, тем не менее.
По вечерам на дальнем горизонте
раскачивались темные леса.
Зеленая тоска брела по зоне,
заглядывая каждому в глаза.
И только непримятые рассветы
с зарей в полнеба, с хрупкой тишиной
нас заставляли забывать об этом
и в синий воздух растворять окно.
Вот когда начиналось оно, мое путешествие по ГУЛАГу – в августе 1940 года... Что это было? Знаком судьбы? Предостережением? Сейчас можно только гадать. Хотя, вспоминая разные мелкие обстоятельства прожитой жизни, я поражаюсь странным совпадениям: еще в 45 году, заканчивая институт, я услыхала об Алма-Ате. Рассказывал писатель Сергей Болдырев, известный в то время молодой очеркист. Почему случился этот разговор, не помню. Может быть, Болдырева пригласили на один из семинаров, а может быть, он тоже был студентом нашим, но заочником. Но запомнилось свое желание – повидать бы этот зеленый, обаятельный по его рассказам город... Может быть, это тоже был знак судьбы?
А строчка ««Шахерезада» пела...» в приведенном выше стихотворении, – воспоминание о чудесной музыке Римского-Корсакова, звучавшей над лагерем тем умиротворенным августовским вечером, который был моим первым лагерным – нарядные, в белоснежных, накрахмаленных, с особым форсом повязанных марлевых косынках прелестные девочки-воровки перекликались в ранних сумерках звонкими голосами, общаясь друг с другом «художественным», если можно так выразиться, необычайно образно заверченным матом. И все это под звуки сладостно-пленительной симфонической поэмы, которую, замечу кстати, очень любил мой отец... Строчки же «койки, застеленные матрасом, казались откровением» были, вероятно, продиктованы неожиданным ощущением комфорта после каменного пола «крантина» Новинской женской тюрьмы, тесноты и грязи КПЗ и вагонок тюремной камеры, где пришлось провести одну-две ночи до этапа в лагерь «Белые Столбы».
Когда весной 40-го перешла на заочное отделение, познакомилась с поэтом Евгением Поляковым, тоже заочником. Невысокий, крепко сбитый, светловолосый, с ярко-синими, казавшимися эмалевыми глазами и нежным девичьим румянцем на щеках, Женя был дальним потомком Суворова и очень гордился своим сходством с прапрапрадедом. Он не только писал стихи, но и рисовал, преимущественно акварелью. Я не помню его картин, осталось ощущение неожиданности – в красках, сюжетах, линиях. Словом, ощущение таланта.
Женский барак в ГУЛАГе
Осенью 41-го, как большинство литинститутцев-москвичей (очников и заочников), Женя стал бойцом истребительного батальона. Форма сидела на нем ладно, и по всему было видно, что солдатская жизнь (бойцы истребительного батальона жили на казарменном положении в общежитии, разместившемся там же, в институте) его не тяготит. Как все наши ребята, он рвался из истребительного батальона на фронт. В сентябре 41-го как раз объявили набор на курсы военных переводчиков – туда ушли Павел Коган и Лена Ржевская, которая после окончания нами краткосрочных курсов медсестер сказала: "Девочки, это не по мне – я ухожу на курсы переводчиков" (она великолепно знала немецкий язык). На эти курсы поступил и Женя Поляков и уже в начале 42 года был на фронте – последний раз я видела его зимой 42-го, когда он приезжал в Москву в какую-то командировку и зашел в институт. Куда-то пропала его белорозовость, у губ появились резкие, жесткие складки, и он действительно стал похож на своего великого предка. Тогда он читал новые стихи, написанные уже на войне. Спустя много лет они были опубликованы в «Дне поэзии – 1965». Привожу эту публикацию с небольшими сокращениями:
«Женя Поляков, студент Литературного института имени Горького, при жизни не напечатал ни одного стихотворения, хотя на занятиях творческого семинара Н. Н. Асеев, И. Л. Сельвинский и С. П. Щипачев сказали о его стихах немало добрых слов.
В 1941 году Женя добровольно ушел в ополчение. Перед отъездом в город на Волге молодой поэт оставил тоненькую тетрадку со своими стихами у преподавателя Литинститута Василия Семеновича Сидорина. Как многие талантливые поэты Женя Поляков предчувствовал в стихах, провидел свою смерть. В конце 42 года он погиб в Сталинграде.»
* * *
В моей сложносочиненной долгой жизни с того дня, как я осталась без родителей и начала самостоятельное «плавание» по ней, мне всегда везло на добрых людей. Одну из поэтических книжек я так и назвала – «Время добрых людей». И едва ли не самой первой в их череде была Мария Михайловна Кантор, преподаватель политэкономии в предвоенном Литинституте. Очень маленькая стройная женщина, которую даже самые высоченные каблуки не делали выше, круглолицая и круглоглазая, с гладко причесанными волосами цвета «вороного крыла», как тогда говорили, с тяжелым пучком на затылке, Мария Михайловна была очень своеобразным человеком. Лекции она читала, очень четко формулируя свой мало мне понятный и доступный предмет, подчеркнуто отчетливо произнося все слова и фразы. При этом, большая умница, она скрашивала лекции остроумным словцом и к месту сказанной шуткой. На переменах рядышком со студентами глубоко затягивалась длиннющими папиросами. В предвоенном Литинституте были вполне демократичные нравы, и дистанцию между преподавателями и студентами никто не подчеркивал специально. Случались даже дружбы и романы, тем более, что студенческий контингент был не похож на обычные вузы. В Литинституте учились все больше взрослые люди, повидавшие жизнь, – на моем первом курсе нас, школьников, было, к примеру, всего трое.
В одной из институтских стенгазет того года была даже карикатура на Мармишу (так за глаза ее звали студенты, а в глаза – близкие) – маленькая Мария Михайловна на неправдоподобно высоченных каблуках гасит о каблук такую же неправдоподобно длиннющую папиросу... Читая лекции хорошо поставленным голосом, она почти непрерывно вращала огромными черными зрачками. Потом, когда я узнала ее ближе, узнала и то, что это один из симптомов того серьезного заболевания, которое было у нее (так называемая «маленькая эпилепсия», или «птималь» по-медицински). Иногда в середине разговора она могла неожиданно грохнуться оземь с высоты своих тонких каблуков, и тогда надо было постараться разжать ее кулачки, непроизвольно крепко сжатые, – начинать надо было с мизинца. Этому она сама меня научила, когда я поселилась у нее.
Ранее я уже писала, что моя комнатка-гробик была очень далеко от центра, добираться трамваем надо было не менее двух, а может, и более часов, «Электрозаводскую» станцию метро тогда только начинали строить. А Мармиша жила на Тверской, в доме на пересечении с Козихинским переулком, где размещался стол заказов соседнего Елисеевского гастронома. Там, на 5-м этаже, в так называемой «надстройке» она жила одна в квартире, состоящей из огромной, не менее двадцати квадратных метров, комнаты, но это была отдельная квартира со всеми удобствами. С лестничной площадки вы попадали в коридор, куда выходили двери двух квартир – Марии Михайловны и Веры Эдуардовны Николаевой, о которой я уже вспоминала, рассказывая о поступлении в институт. Она много лет была бессменным секретарем учебной части и бессменной героиней литинститутского фольклора. Была она очень своеобразным человеком, чем-то даже совпадая с некоторыми из бессмертных героинь Марии Владимировны Мироновой.
Очень эффектная и элегантная дама, она воплощала классический тип секретарши, увековеченный Мироновой, и владела всеми нюансами профессии – от ледяной администраторской вежливости до изящно замаскированной любезностью фамильярности. Студенты ее и побаивались, и по-своему любили, сочиняя о ней анекдоты и «капустные» частушки. Ни того ни другого за давностью лет не помню. Зато помню ее сына-подростка Андрея, который, когда его спрашивали – кем ты хочешь стать? – отвечал: буду клоуном, и стал клоуном Андреем Николаевым, широко известным и талантливым. В доброте Веры Эдуардовны я убедилась не только, когда жила по соседству, у Марии Михайловны, но и много позже, когда, приехав в Москву в декабре 56-го после реабилитации, попросила ее разыскать важный для меня документ – Справку о снятии судимости, выданную по возвращении в институт из штрафной роты. Вера Эдуардовна не только разыскала ее в архиве, но и вернула мне подлинник, оставив в архиве копию, ею же самой и заверенную.
Муж Марии Михайловны Глеб Петрович тоже преподавал политэкономию, но в 38-м был арестован. Когда в 39-м, при смене Ежова на Берию был небольшой «просвет», его выпустили, но ненадолго – в 40-м снова арестовали. Думаю, что именно потому Мармиша и пригласила меня жить к себе, чтобы хоть как-то скрасить одиночество в постылой огромной комнате. Пригласила бескорыстно, даже с юмором, с какой-то шуткой, которую, увы, не помню. Юмор ее никогда не оставлял, им она спасалась от бед...
Довоенный Литинститут был, конечно, уникален не только как единственное тогда в мире учебное заведение, «учившее на писателей». Все понимали, конечно, что «на писателя» нельзя «выучиться», но я уже ранее писала, что образование, которое он давал, а главное, творческие семинары выдающихся прозаиков и поэтов, очень много давали начинающим литераторам: развивали вкус, создавали понимание уровня истинной литературы и учили профессиональному мастерству. Но кроме всего этого в предвоенном Литинституте, да и какое-то время в военную еще пору, жил дух некоей вольности, либерализма, демократичности. Словом, все мы, и студенты, и преподаватели, считали Литинститут чем-то вроде Лицея. Боюсь эпитета «пушкинский», он слишком обязывает, но некий лицейский дух долго сохранялся в стенах Дома Герцена, вплоть до назначения его директором автора повести «Цемент» Федора Гладкова – он стал вводить казарменный режим, но об этом я знаю уже с чужих слов, так как в 47-м году была уже не студенткой, а всего лишь прикрепленным агитатором, а в начале 48-го вообще была «изъята из обращения».
Наверно, я все же какие-то денежки давала Мар-мише – не за жилье, разумеется, а на пропитание – ведь в 40-м я работала, а в институте училась на заочном отделении.
Жила я у Мармиши весь 40-й год и часть 41-го. Здесь услышала о войне, отсюда бегала на краткосрочные курсы медсестер, отсюда уехала на Б. Семеновскую за тканью для рюкзака и, не заходя больше ни домой, ни сюда, ушла в военкомат в надежде попасть на фронт. Сюда же и вернулась после первой, так и не удавшейся попытки ухода на войну. Именно об этой комнате, где от стужи ледяным блеском отливал паркет и руки обжигало прикосновение к ледяным батареям, я и написала стихотворение:
И вот она, военная зима:
оранжевое солнце, дымный воздух
и неспокойные обрывки сна,
и в комнате два градуса мороза.
Учебники навалены. Ведро
из рук озябших с грохотом валится…
От груза одиноких вечеров
и от озноба – по ночам не спится.
Прислушиваюсь к комнате. Она
живет, как будто нет меня в помине.
И ходит ветер около окна,
и синяя вода в графине стынет,
и нет тебя, чтоб губы отогреть,
нет рук твоих, чтоб руки отогрели...
и кажется, что суждена мне смерть
в насквозь промерзшей ледяной постели.
Но было это позже, первой ледяной военной зимой, а в августе или, вероятнее всего, в сентябре, Мармиша уехала в эвакуацию с сестрой, женой одного из командиров испанской интербригады. Его видела однажды – рыжего, веселого сухопарого немца, судьбы его дальнейшей не знаю – ведь был он связан с Коминтерном... А вообще-то судьба крайне причудлива в своих переплетениях людских обстоятельств и событий. Когда-то Мэгги (тот самый иностранный корреспондент, знакомство с которым и послужило причиной особого интереса ко мне органов) выручил меня, ожидавшую ребенка, работой на пишущей машинке в его номере в гостинице «Метрополь» – я печатала двумя пальцами пьесу о партизанах «Белые ангелы», написанную им в соавторстве с писателем Петром Жаткиным, сбежавшим из плена в начале войны и попавшим к партизанам. Сюжета пьесы, конечно, не помню и самого Жаткина видела всего один раз – там же, в «Метрополе». Но в 56-м уже в Москве узнала, что за Магидова-Мэгги арестовали не одну меня, а нескольких его знакомых, в том числе и Петра Жаткина... А читая свое следственное дело, узнала, что он стал мужем Марии Михайловны Кантор. Мир оказался тесен...
Когда потом я приезжала в Москву (не так часто, как хотелось бы!), мне всегда не хватало времени, а потом и сил и – каюсь – я так и не разыскала Мармишу... Кто-то рассказал, что она дожила до глубокой старости.
Низко кланяюсь ее мудрой доброте, ее душевной щедрости. И давно поняла, что душевные долги тем добрым людям, что в разное время мне помогали и кого я так и не сумела или не успела разыскать, отдавать можно только единственным способом – помогать другим, чтобы не прервалась цепочка добра...
Экзамены за 2 курс я сдавала в начале июня 41 года, предварительно все подготовив для приезда брата – удалось договориться, что его примут в ФЗУ с общежитием, хотя ему еще не было необходимых 14-ти лет. Я собиралась взять отпуск, сдав сессию, и поехать за ним в Новоукраинку.
Забегая вперед, должна рассказать подробнее о его судьбе. В марте 41-го ему исполнилось 13 лет. Он переписывался со мной и с мамой, отбывавшей свой «чеэсировский» срок в одном ил лагпунктов Темниковских лагерей. Сохранились его письма маме, в одном – черные цензурные вымарки, сквозь которые и сегодня нельзя разобрать, что было написано... Может быть, вопрос, заданный им однажды в письме ко мне – «правда ли, что наш папа – «враг народа»?..» Даже письмо детдомовского ребенка репрессированной матери в лагере цензуровалось... Рядом с мамой отбывала срок женщина, тоже получавшая письма из того же детдома. Тяжко даже представить себе состояние мамы, когда письма из детдома, переставшие было приходить с началом войны, снова стали получать в лагере, и ее товарка по беде получила, наконец, письмо от своего сына из приволжского городка, куда эвакуировали их детдом, а мама совсем перестала получать письма от Артика...
До самой своей смерти в 47-м она разыскивала его во всех возможных инстанциях, но так и умерла, не узнав ничего. И, может быть, это и хорошо. Я же после ее смерти продолжила поиски брата, и так как отовсюду приходили отрицательные ответы, догадалась, наконец, написать прямо в Новоукраинский горсовет, и вскоре получила ответ от одной из его служащих, тоже бывшей детдомовки, в котором она коротко рассказала о судьбе Артура.
В панической эвакуации (гитлеровцы должны были вот-вот войти в город) не всех детей удалось собрать и отправить. Наш Артик, эта девочка и еще несколько детей остались в занятой фашистами Новоукраинке. Какое-то время им удалось продержаться, хотя жили впроголодь, – просили подаяние, а, может быть, и подворовывали... Но все-таки гитлеровцы обнаружили Артика, а, может быть, кто-нибудь выдал, что он еврей. Ответ из Новоукраинки пришел незадолго до моего ареста, и до сих пор я так ничего не знаю о его судьбе и гибели, хотя и после освобождения пыталась его разыскивать через Красный Крест.
* * *
...23-го июня 41 года три студентки Литинститута – Лена Ржевская, Вика Мальт и я записались на РОККовские краткосрочные курсы медсестер. Вскоре к нам присоединилась их подруга, студентка ИФЛИ Юлия (Юка) Капусте. Занимались на сцене Камерного театра, расположенного рядом с институтом, и в каком-то старинном одноэтажном здании на другой стороне Тверского бульвара. Практику проходили в отделении челюстно-лицевой хирургии 1-й Градской больницы...
После окончания курсов я не раз обращалась в военкомат с просьбой послать на фронт, но мне регулярно отвечали: «понадобится – вызовем». А в трагически памятный день 16 октября 41 года, когда стало известно о прорыве гитлеровцев под Малоярославцем (как потом узнала, как раз там, где находился Шура Петряев), я окончательно решила уйти на фронт.
Решение пришло после того, как в этот день в институте на дверях я прочла объявление: «Всем студентам получить в бухгалтерии по 50 рублей для эвакуации в г. Горький. Сбор на пристани». Было как-то неуютно. Утром, встав в очередь за хлебом (еще накануне ничего подобного не было, а тут очередь из филипповской булочной на улице Горького растянулась до площади Пушкина и обратно), я оказалась последней, кому достался белый хлеб. Собственно, он был не белым, а желтым – с примесью кукурузной муки. Когда он был свежим, он был не только очень красивым, аппетитным и пышным, но и очень вкусным, но быстро черствел. Такой хлеб в Москве стали выпекать в 40-м году после присоединения Западной Украины и Бессарабии.
Конечно, не эта очередь сыграла главную роль в моем решении – но все вместе: и та атмосфера всеобщей паники, которая как-то сразу возникла вокруг еще и оттого, что на всех предприятиях и во всех учреждениях выдавали вперед двухнедельную зарплату и эвакуировали людей; и объявление на дверях в институте – все это вместе привело к окончательному решению. Я поняла, что перспектива как-то (а как, неизвестно) добираться до пристани в Горьком меня не устраивает.
Надо заметить, что в те тревожные дни я прибилась к одной компании – в переулке на Б. Дмитровке жила недавняя студентка нашего института переводчица Лида Кошке. Работала она шофером грузовика, хотя была переводчицей с немецкого и сотрудничала с немецкой редакцией Радиокомитета. Двое ее детей были в эвакуации, жили у отца, бывшего ее мужа, начальника Чирчикстроя. А в большой ее квартире собралась довольно своеобразная команда – близкий ее приятель, переводчик с французского, фамилию запамятовала. Еще – инженер с завода «Манометр», бывший муж ее подруги. Всем им было лет по тридцати, я была самая юная. Мария Михайловна тогда уже эвакуировалась. Эвакуировалась с больным мужем и годовалым сыном подруга Римма. Эвакуировалась и Нина, еще одна близкая моя подруга. И от одиночества и неуюта я прибилась к теплому дому Лиды...
Именно туда «на огонек» заглянула вечером 15 октября парторг нашего института, бывшая студентка, а тогда уже преподаватель Слава Владимировна Ширина. В столовой под оранжевым абажуром было тепло и уютно, по радио звучали вальсы Штрауса, а Слава рассказывала нам все, что узнала вчера о прорыве под Малоярославцем, и с тревогой размышляла, что будет дальше. И я, младшая, конечно, не могла не поддаться этому тревожному настроению. На следующий день и была та очередь у филипповской булочной, о которой я уже рассказала выше.
16 октября я отправилась в близлежащие спортмагазины искать рюкзак (на всякий случай) и, конечно, не нашла, уже все были раскуплены. Вечером пришла к Лиде. Там, все под тем же солнечным абажуром в столовой и состоялся «военный совет». Переводчик сказал: «Лида умеет вести машину, в городе паника, много брошенных легковушек. Надо хватать первую попавшуюся и ехать на восток, пока хватит бензина...» Лида с каким-то отрешенным лицом и без всякого выражения произнесла: «Я никуда не поеду. Во-первых, я не верю, что Москву сдадут. Во-вторых, если все же такое случится, то я – немка, фон Кошке, меня не тронут...» Инженер Боря сказал, что он во взрывной бригаде своего завода и потому никуда не имеет права двигаться... Много позже, вспоминая этот эпизод, я догадалась, что Лида не могла нам всего рассказать: она действительно осталась бы в сданной Москве, если бы все же это несчастье случилось, но не как немка фон Кошке, а как наша разведчица... В ту тревожную зиму она встретила своего будущего второго мужа, военного корреспондента, морского писателя Владимира Рудного, с которым прожила потом долгую и счастливую жизнь.
Утром 17 октября я вспомнила, что дома на Б. Семеновской оставался кусок декоративной ткани еще от домашних маминых штор, из которого может получиться хороший дорожный мешок, я отправилась туда. В моей комнатенке был репродуктор – звучали марши, вальсы, но периодически музыка прерывалась, и пытающийся сохранить невозмутимость диктор сообщал: «Через 20 минут слушайте выступление председателя Московского Совета...» Так повторялось несколько раз. Тогда и пришло окончательное решение – я вспомнила, что на соседней улице находится наш Сталинский райвоенкомат. Меня только и спросили там: «Сейчас можете?» Я попросила время на сборы – поехала к тете сшить вещмешок. В семь вечера явилась на сборный пункт в свою маршевую роту, позвонила оттуда по автомату Славе Щириной, сообщила – ухожу в армию, попрощалась. Уже за заставой оглянулась – небо розовело. Москву бомбили...
Хотя я очень отказывалась, меня вместе с еще одной медсестрой усадили на двуколку – «дорога дальняя! успеете еще нашататься пёхом!..» Из Москвы выводили что называется «живую силу» – в маршевые роты мобилизовывали всех, кого можно было и кого нельзя, и, не обмундировывая, не до того было (лишь в паспорте ставили штамп о мобилизации), людей срочно отправляли «своим ходом» на Восток.
В нашей роте при выходе из Москвы было примерно 350 человек. Нас то догоняли, то перегоняли такие же маршевые роты, шли свободным строем, кто как мог.
Вскоре я озябла, едучи в двуколке, да и пора было проверить состояние бойцов, не отстал ли кто. Оказалось, что кому-то стало плохо, надо было им помочь. Мобилизация была настолько спешная, что никого не комиссовали. Ярче всех запомнились двое – пожилой мужчина, которому до снятия с воинского учета оставались считанные дни. Идти пешком ему было очень трудно, так как у него было очень серьезное проктологическое заболевание. Усадила его в двуколку. Вскоре и она, и телега с провиантом, шедшая в конце колонны, оказались заполнены больными. Один подросток шел, чуть не плача – каждый шаг доставлял ему сильнейшую боль, но он упорно отказывался сесть на телегу. В конце концов мне удалось его уговорить, да и видно было, что ему уже невмоготу. Оказалось, что ему не 18 лет, как записано в паспорте, – его матушка, многодетная вдова, приписала ему два года, чтобы его могли взять на завод и он помогал семье. А ботинки в дорогу дала новые, лучшие, а он уже из них вырос, но, чтоб не огорчать матушку, кое-как втиснулся в них...
Всю ту ночь мы шли безостановочно, видимо, даже побили какой-нибудь рекорд, потому что утром стали на привал в подмосковном городке Ногинске. А это было, наверно, не меньше 50 километров. Откуда только силы брали?
Впечатления той ночи запомнились навсегда – сперва на обочине дороги у кювета увидели раздавленного пса. Потом – труп подростка в форме ФЗУ; ближе к рассвету – тела еще нескольких фэзэушников, рядком выложенные за кюветом... По соображениям маскировки машины мчались без света, вот и сшибали тех, кто не успевал сойти с дороги. С тяжелым чувством вошла я в Ногинск. Там мы расположились в каком-то клубе, почти все свалились без сил, кто где стоял, а я, перемогая себя, отправилась проверять состояние людей и делать все, что требовалось по уставу и должности. Видимо, в экстремальных ситуациях у людей открываются скрытые резервы...
Меня окликнул какой-то мужчина в кожаной куртке, оказался московским таксистом, человеком запасливым:
«Присядь, сестра, перекуси» – протянул кусок вареной куры, жестяную кружку – «Хлебни чуток, а то сама заболеешь...» Убежденно сказал: «Я на фронт хочу! А нас, видимо, в тыл ведут – сбегу!» Наверное, он так и сделал, потому что, когда мы добрались до места назначения, вместо 350 человек, выходивших из Москвы, в нашей роте оказалось человек 150-100, точнее, конечно, не помню.
Таксист оказался прав – нас выводили в тыл, и в Действующую армию я тогда не попала – с разнообразными «приключениями» (то отставала от своих, то обгоняла их – шли вольно, в гражданской одежде) я добралась сперва до Владимира, потом вместе со всеми до Мурома, потом снова «своим ходом» – на поезде приехала в Йошкар-Олу. Там, к моменту нашего появления, собралось в одной из школ города, превращенной в общежитие, около сотни медсестер-«краткосрочниц». В Йошкар-Оле переформировывалась уже побывавшая в боях 46-я стрелковая бригада, где сохранился, в основном, кадровый медперсонал.
По дороге в Йошкар-Олу я подружилась с Ксаной, красивой студенткой Московского института инженеров-водников, так же, как и я, добровольно ушедшей в армию в дни великой московской паники 16-17 октября. Из Мурома мы вместе добирались в переполненном поезде до Йошкар-Олы и потом все время держались вместе. Вместе же получили назначение в 133-й стрелковый полк. В расположении полка были казармы и несколько административных зданий. На третьем этаже такого кирпичного красного дома нас поместили в каком-то служебном кабинете. Когда стемнело, выяснилось, что дверь к нам не имеет ни запора, ни замка. Мы пододвинули к ней тяжелый двухтумбовый письменный стол и, как оказалось, правильно сделали – ночью к нам ломились. Судя по голосам – несколько пьяных. Ранним утром, собрав свои немудреные пожитки, мы подошли к часовому у ворот и буднично так сказали, что нас вызвали к бригадному хирургу на совещание. Бригадный хирург был старшим командиром для медперсонала, мы рассказали ему все, как есть, и он направил нас в 1-й отдельный батальон связи. Там нас встретили без особого энтузиазма, но на работу послали – в банный наряд.
Обязанности были несложными – в предбаннике объяснять бойцам, как связывать вещи для прожарки от вшей, в бане – дезинфицировать сулемой уже их самих от лобковых паразитов и потом, после мытья, в другом помещении, так сказать, «послебаннике», помочь разобраться с одеждой, поступающей из дезокамеры... Но пикантность ситуации была в том, что обмундировать нас все еще не успели, мы были в своем, гражданском, даже белых халатов у нас не было, а бойцы были наши ровесники, в большинстве московские студенты, отдельный батальон связи – подразделение специализированное, где требовался определенный уровень знаний и культуры, и потому формировался в основном из студентов.
С каменными от смущения, «официальными» лицами мы распоряжались: «Ремни и обувь – отдельно, отдельно головные уборы, отдельно одежду». Новобранцы, тоже еще не обмундированные, смущались не меньше нас и, прикрываясь, бочком пробегали в баню. Но там, в клубах горячего пара мы обязаны были дезинфицировать каждому «свежепомытому» лобок квачем, смоченным в растворе сулемы, и эта процедура была еще более мучительна и для нас, и для них. Но ко всему можно привыкнуть, и вскоре мы освоились со своими обязанностями.
Вещи из прожарки поступали совсем не в том порядке, в каком их складывали, – их приносили охапками, еще горячие: одному попадалась кепка и ботинки, а все остальное приносили потом, другому – майка и рубаха, третьему брюки... Кое-как задрапировавшись в ожидании следующей партии вещей, ребята разговорились с нами. Оказалось, что большинство студенты-москвичи. Посыпались шуточки, вспомнили студенческие песни, разошедшуюся по московским вузам «Бригантину». Это была живописная картинка: мальчишки, одетые кто во что горазд, окружали нас – смеялись, хохмили, пели...
Мы успели провести не больше двух-трех нарядов, как нас вызвали в штаб батальона. Заместитель начальника штаба с облегчением сообщил нам, что пришел приказ о демобилизации «краткосрочных» медсестер. Нас, как я уже упоминала, собралось в одной из школ Йошкар-Олы около сотни. «С облегчением» – потому что сохранившиеся в батальоне кадровые медсестры отнеслись к нам, «штафиркам», более чем без энтузиазма: они уже побывали в боях, до войны позаканчивали профессиональные медицинские училища и школы, и замначштаба не без основания опасался конфликтов. Демобилизовать нас было куда проще, чтобы спокойно жить.
– Выбирайте любое место в Советском Союзе, – великодушно объявил он, – я выпишу вам литер в любой город на Востоке.
Может быть, Ксане было куда ехать, но у меня в целом мире кроме мамы в Темниковских лагерях, брата в детдоме на Украине да тети с дядей в Москве – никого не было; и я решительно возразила: только в Москву, деваться мне больше некуда...
До Мурома мы снова ехали в переполненном поезде, а от Мурома остались одни в пустом и ледяном общем вагоне. Устроившись на боковой нижней полке «валетом», чтобы закутать ноги тоненьким байковым одеяльцем, которое я успела захватить из дому, мы согревались песенками и более чем скромным сухим пайком, от которого к приезду в Москву осталась одна большая красивая луковица. Когда мы выскочили на деревянный настил перрона Ярославского вокзала, услышали привычные, почти родные звуки – завыла сирена «воздушной тревоги». Тетя с дядей жили недалеко от площади трех вокзалов, на Нижне-Красносельской – мы успели застать их еще до ухода в убежище...
Это было 27 ноября 1941 года. До декабрьского контрнаступления под Москвой оставалось восемь дней.
Я не помню сейчас, когда я узнала о судьбе 1-го отдельного батальона связи. Но как узнала, помню: я изредка навещала родителей Шуры Петряева, к тому времени уже получивших извещение о его гибели. И однажды Ольга Дмитриевна, мама Шуры, встретила меня с помертвевшим лицом и бесцветным голосом сказала – «Диму тоже убили...» А я уже знала к тому времени, что в ноябре Дмитрия, младшего брата Шуры, тоже призвали, и что попал он как раз в тот самый 1-й отдельный батальон связи 46 стрелковой бригады, и что разминулись мы с ним самую малость...
Бригаду бросили на прорыв под Вязьмой, где она была почти полностью уничтожена.
* * *
Оказалось, что Литинститут не прекращал занятий ни на один день, что никакой эвакуации не было: вместо ушедших на фронт быстро набрали девушек и белобилетников (благо, всегда был высокий конкурс, да и заочники-москвичи стали очниками). В Доме Герцена было так холодно, что только самые молодые из преподавателей снимали в аудиториях теплые шапки, а те, кто постарше, так и читали – в головных уборах.
Зима 41-42 года была лютой – с морозами под 30. И вот в той компании, о которой я уже писала и куда вернулась после неудавшегося добровольного ухода на фронт, где меня опекали как младшую, было решено «утеплить» меня. Боря, инженер с завода «Манометр», принес свою старую «москвичку», не помню откуда мне достались утепленные ботиночки на кнопках, образца двадцатых годов, у которых был один, но существенный недостаток – почти не осталось подошв, и ботиночки навечно были вдеты в калошки. Несколько слов о том, что такое «москвичка», которую нынче никто почти даже из старых людей не носит. Это мужское зимнее полупальто с меховым воротником, часто подбитое мехом. Вот и Борина «москвичка» была подбита кроличьим мехом. Хотя хозяин ее был невысоким, она была мне все же велика, и рукава длинны. Но так как у меня в ту пору не было варежек, я засовывала руки в рукава, как в муфту, поглубже. А чтобы было потеплее, спинной хлястик распорола и застегивала спереди булавкой: получалось что-то вроде пояса. «Москвичка» была из какой-то темно-серой шерстяной ткани, а хлястик оказался с коричневой фланелевой подкладкой, вывернутой наружу. Но меня тогда это не смущало – лишь бы теплее было! На голову в виде модного тогда тюрбана приспособила красиво вывязанную из рыжей и розовой шерсти наволочку для диванной подушки, подаренную мне тетей. Когда, раздеваясь в помещении, снимала «москвичку», то сзади на папиных темно-коричневых спортивных брюках, случайно уцелевших при конфискации его вещей (они были мне порядком великоваты), оседало довольно много кроличьего меха. Красная шерстяная ажурная кофточка с вырезом лодочкой и короткими рукавами довершала мое одеяние. Выглядела я весьма экстравагантно, чтобы не сказать, очень странно!..
Именно в таком одеянии меня и приметил новый студент, оказавшийся на курсе в то время, что я отсутствовала, – Алексей Страхов, бывший ВГИКо-вец. Его институт эвакуировался в Алма-Ату, а он, студент сценарного факультета, перевелся к нам. Почему его не призвали в армию, я и до сих пор не знаю – то ли как единственного сына у одинокой матери (кажется, была тогда такая льгота), то ли как сына репрессированного: когда мы вскоре подружились, я узнала, что и у Алеши в 37-м отец был арестован и, подобно моему, получил «десять лет без права переписки» в качестве «врага народа».
Алексей был высоким красивым юношей, похожим на молодого Александра Блока – такое же удлиненное благородное лицо, светло-пепельные вьющиеся волосы над высоким лбом, светлые серые глаза. Я напрочь не помню, как именно мы познакомились, и могу только догадываться, что его привлекло во мне. Скорее всего то, что я была уж очень не похожа на других студенток – ухоженных маминых дочек, красивых, высоких, нарядных по сравнению со мной. И еще, наверно, то, что я, хоть и не совсем удачно, пыталась уйти на фронт. Так или иначе, мы очень быстро подружились, а вскоре и сблизились, полюбив друг друга.
Посмотреть на себя со стороны, оценить себя сторонним взглядом редко кому удается, особенно в молодости. И я не исключение. Но недавно близкая старшая подруга, учившаяся тогда с нами на одном курсе и запомнившая нас, рассказала: «Вы были неразлучной парой, держались все время за руки и сияли от счастья. Ты, с ярким румянцем на щеках, счастливая, и бело-розовый высокий Алеша. Не заметить, не запомнить вас было невозможно...»
Оставшись в шестнадцать лет без родителей, предоставленная во всех смыслах самой себе, я к своему двадцатилетию уже, к сожалению, имела некоторый любовный опыт. В семнадцать лет я была готова беззаветно полюбить и – полюбила. Но, как водится, первая любовь оказалась не то чтобы несчастной, но не сложившейся. Моего возлюбленного, когда он уехал на зимние каникулы в феврале 39-го в родной город, дома срочно женили. Мы расстались, и ненадолго соединились потом перед его добровольным уходом на финскую войну. После возвращения его с войны – расстались окончательно.
Может быть, оттого, что мой знак Зодиака – Близнецы, я всегда остро страдала от одиночества. Может быть, еще и потому, что мои родители очень любили друг друга и были вместе счастливы настолько, что школьная подружка, родители которой жили очень немирно, однажды даже позавидовала: «Твои родители влюблены друг в друга, как молодые...» Воспоминания о них еще больше усиливали потребность в семье, в счастливой любви.
Ко времени встречи с Алешей я не была уже той влюбчивой девочкой, которая летела на первый встречный огонек этаким мотыльком, крылышки были уже обожжены. Но, видимо, жажда любви, семьи, основательности была сильнее моего не очень удачливого женского опыта.
Сперва мы с Алешей встречались, отогревая друг друга дыханием, в ледяной квартире Мармиши, еще в сентябре уехавшей в эвакуацию. А вскоре он привел меня к себе домой, на 1-й Щипковский переулок, и познакомил с мамой, акмеистской поэтессой Натальей Авиловой. Наталья Федоровна Страхова-Авилова была дочерью известного толстовца Федора Федоровича Страхова, тогда числящегося в крайних реакционерах, хотя его уже давно не было в живых.
И сама она, и муж ее, пропавший в 37-м, были убежденными толстовцами. Алеша таким не был, но вегетарианцем она его все же воспитала, и помню, как он чуть не плакал, когда, раздобыв в магазине рыбьи головы, Наталья Федоровна сварила уху, а он не мог ее есть, хотя был очень голоден. В институтском буфетном подвальчике иногда давали пельмени, и мы ели их вместе – он тесто, а я начинку. Иногда там же продавали дочерна изжаренные куски сухой утки, и Алеша шутил – ешь свою жареную ворону!
Когда Алеша привел меня домой со словами – «этой девочке негде жить, она ночует у знакомых, пусть поживет у нас», я, естественно, не глянулась его маме, как это почти всегда бывает с мамами единственных сыновей, воспитываемых в одиночку. И, поняв это, я вернулась к себе, на Б. Семеновскую. Там тоже были ледяные батареи, как у Мармиши, комнатка была крохотная, но в ней легче было надышать тепло.
Помню, как горько я там плакала от невозможности быть с Алексеем: у меня и в мыслях не было отобрать единственного сына у матери, хоть я и понимала, что если бы очень захотела, это мне, может, и удалось бы, пусть и ненадолго. Но Алеше без меня тоже было худо, потому что вскоре он привел меня в дом насовсем, и Наталья Федоровна то ли смирилась с моим присутствием, то ли приняла меня – не в душу, конечно, – в дом ради сына. Март и апрель я уже жила у них постоянно. Неумеха, училась готовить, топила буржуйку. В начале мая посадили на даче картошку. Была ли у них дача раньше или Наталье Федоровне дали ее в ВЦСПС, где она работала машинисткой, не помню. В институте для весенних посадок выдали по ведру картошки, у нас получилось два ведра на двоих. Каждый клубень разрезали пополам, срезали крышечку, высаживали половинки в бумажные стаканчики – ящики с рассадой держали на солнечном подоконнике. А крышечки, тщательно отмыв, варили потом с запаренными пшеничными зернами – где-то неподалеку сгорела от бомбежки мельница, и на рынке продавали стаканами зерна пшеницы, чуть припахивающие гарью...
А на даче было двухэтажное светлое деревянное строение, еще необжитое, потому что пахло «сосной и хвоей», как я потом написала в одном из стихотворений...
Было столько настоящего счастья той весной!.. И, конечно, оно не могло не кончиться бедой.
Еще в начале марта, когда мы уже окончательно сблизились и поняли, что нам нельзя быть врозь, Алеша дал мне прочесть свой сценарий «Синий платочек» – эта милая бесхитростная песенка начинала тогда свою жизнь, ее пели всюду – в тылу и на фронте, а потом она стала знаком времени...
Сценарий был написан талантливо и профессионально. По ряду причин мне к тому времени удалось прочесть много хороших американских сценариев, печатавшихся в наших журналах, и я кое-что стала понимать в этом. Но сюжет Лешиного сценария меня удивил, даже озадачил. В нем рассказывалось о том, как в военную Москву оказался заброшен в форме командира Красной Армии молодой человек, попавший в первые дни войны в плен к фашистам и под угрозой смерти завербованный ими. Герой сценария выслеживает его. Драматичность сценария была в том, что оба любят одну и ту же молодую женщину, свою бывшую одноклассницу, но она-то полюбила того, кто был завербован. Сообщить о нем в «органы» значило для героя сценария предать ту, которую полюбил еще в школе. Действие обрывалось на нейтральной полосе, когда «шпион» собирается переходить линию фронта, а герой его преследует...
Озадаченная необычностью сюжета, я спросила у Алеши – откуда он взял его, почему возник такой сюжет? И он рассказал мне, что сюжет взят им из своей собственной жизни.
Это он, Алеша Страхов, любил еще в школе одноклассницу, Марианну Шолохову, ныне студентку какого-то музыкального училища. Но, как это часто бывает, для нее он был чем-то вроде брата, всего лишь другом-одноклассником, хотя и близким другом.
А полюбила она и сблизилась совсем с другим человеком, тоже музыкантом, но военным – курсантом военно-музыкального училища. Вот он-то и попал в плен и был завербован и заслан в Москву даже не один, а с кем-то в паре. И жил здесь, скрываясь то у Марианны, то где-то у родственников своего напарника. Подробности эти меня ошеломили и испугали: «Почему же ты не пойдешь сообщить об этом куда следует?» – спросила я его. Он ответил, что еще не пришло время, что он выжидает, чтобы все было доказательно... Я немного успокоилась – дочь репрессированных родителей, ни минуты не верившая в их вину, я и сама уже не очень доверяла органам. Но Алеше поверила, что придет время – и он сообщит куда надо...
Алеша дал мне прочесть несколько тетрадей своих дневников – это были беспредельно честные откровенные записи о том, что его терзало и как ему жилось. Вести он их начал еще до войны. Возник образ молодого человека, раздираемого противоречиями, жившего как бы в двух мирах. Один мир – семья, мама – акмеистская поэтесса Наталья Авилова, двоюродная сестра той знаменитой чеховской Лидии Авиловой (Алеша часто упоминал тетю Лиду, но так и не собрался привести меня к ней), убежденная толстовка, человек из той прошлой России, которая была потеряна, уничтожена Революцией; ни за что репрессированный отец из то ли донских, то ли кубанских негоциантов, тоже убежденный толстовец, хотя, по рассказам Алексея, человек азартный, игрок по природе. И – советская школа, вуз, вся реальность жизни, по-своему увлекательной: замечательный институт – ВГИК, один из лучших творческих вузов тогда, интереснейшие преподаватели, прекрасные старые фильмы – классика мирового кино, студенческая жизнь. И тут же безответная любовь к Марианне... Сообщить о ее любимом значило предать ее.
Это полное, безоговорочное доверие Алеши ко мне обезоруживало меня – я видела, что любит он меня, а не ее, и, когда он уходил туда с байковыми одеялами для ее возлюбленного, я не ревновала. Кто сейчас может сказать, что надо было делать? Может быть, и надо было разыграть ревность и тем остановить его в романтическом безрассудстве? По-настоящему я испугалась в конце апреля, когда Алеша привел к нам этого Зуевича и помог ему изготовить печать на какой-то подложной справке. Наверное, на этой справке Зуевич с сообщником и попался...
5 мая 42 года Алешу арестовали. 13 июня – пришли за его дневниками. Но к тому времени по настоянию Натальи Федоровны я сожгла его дневники в буржуйке на кухне. Меня пригласили пересказать их содержание и увезли на Большую Лубянку...
Зная содержание Лешиных дневников, я не хотела их жечь, надеясь, что их, может быть, затребуют и увидят, что не злоумышление руководило Алексеем, когда он выручал этого Зуевича ради Марианны. Это была прежде всего обычная порядочность по отношению к ней. И еще – так часто свойственная молодым мужчинам тяга к приключениям, своего рода неизжитый полудетский романтизм. Но если ничего этого не принимать в расчет, то по фактам это, конечно же, было преступление. Шла страшная война, и любое пособничество врагам было преступлением....
Но тут я вынуждена прервать себя – я писала эти строки, осмысляя события полувековой давности зимой 93 года, прочитав свое следственное дело и кое-что освежив по нему в памяти – точный адрес Алешиной квартиры, дату его ареста. Узнала дату его расстрела... Я не знала тогда, что Комиссия по пересмотру дел о политических репрессиях, которой руководит А. Н. Яковлев, уже запросила следственные документы по этому делу и пересматривает его. Только удивилась, когда, запросив свое дело 42 года (работая над этими записями, я поняла, что мне необходимо его прочесть), получила ответ, что его нет в архиве... И все же, поразмыслив, я поняла – я должна рассказать об этом деле, об этом своем аресте все, что помню, чтобы многое стало потом по местам в моей дальнейшей судьбе и аресте 48 года. А летом 93 года я получила запрос Военной прокуратуры России с просьбой дать показания об этом деле, там был и вопрос, оскорбивший меня, – не оговорила ли я кого-нибудь, в том числе и себя, дачей ложных показаний, и если – да, то – почему? С оказией (чтобы дошло наверняка) я отправила свой ответ с подробностями обо всем, что уже рассказала здесь выше и со своей версией понимания причин поступков Алеши. В октябре 1993 года я получила из Военной прокуратуры России Справку о реабилитации по делу 42 года. Я не думала, что реабилитировали по этому делу только меня – пересмотр моей вины означал, мне казалось, пересмотр всего дела. И стало мне так горько – нет, не за свою жизнь. Она в принципе состоялась. Ведь если человек чего-то стоит и если он жив, то, как правило, он осуществляется как личность, и если хоть мало-мальски даровит, то реализует свое дарование, хотя и не всегда в полную меру... Но Алексея Страхова – молодого, умного, талантливого и красивого – в живых не осталось...
Когда-то я написала о гибели своего брата-подростка «ты был один из миллионов в бесчисленных нулях смертей...» Вот и Алеша – один из подобных бесчисленных нулей... Но от сознания этого не легче.
Возвращаюсь в июнь 42-го. Я пыталась убедить Наталью Федоровну не жечь дневники, но и ослушаться ее не смела. Сжечь дневники сына было ее правом – правом матери, правом человека, потерявшего мужа в 37-м, человека, пережившего Революцию с ее часто бессмысленной жестокостью. И я сожгла Алешины дневники в нашей кухонной буржуйке.
А сейчас вот пришли за мной, точнее за этими тетрадками. Я думаю, что это не было просто предлогом, чтобы взять меня. Судя по тому, как со мной говорила моя следователь (кажется, ее фамилия была Мансурова), – строго, но, вместе с тем, доброжелательно, я считаю, что они искренно хотели разобраться в мотивах, побудивших Алексея помогать этому Зуевичу.
Однажды Мансурова спросила: «Скажите, кто такой Федя?» Я переспросила: «Какой Федя??» «Посмотрите на пюпитр», – приказала она. Подследственные сидели в углу кабинета за деревянным пюпитром, на котором можно было писать и собственноручные показания в случае необходимости и подписывать протоколы. На пюпитре по дереву было выцарапано чем-то острым: «Руфь? Где Федя?» Чем Алеша ухитрился сделать эту надпись, я не знаю, но, вероятно, заметив его старания, ему незаметно дали возможность осуществить свое намерение, в надежде узнать что-то новое о нем или обо мне. Как бы то ни было, на пюпитре было нацарапано «Руфь? Где Федя?», и следователь спрашивала, кто это такой. А это был наш с Алешей неродившийся ребенок – когда Алешу увели, я была беременна. Когда я поняла, что жду Алешиного ребенка, попыталась сделать все, чтобы его не было: война, недоедание – все делало появление его несвоевременным. Но, видимо, молодой здоровый организм не так легко поддавался всяким измывательствам над собой, и в конце концов мы решили оставить беременность, надеясь, что будет сын и что в честь деда, отца Натальи Федоровны, мы назовем его Федором. Вот о нем Алеша и спрашивал меня. Но к тому времени у меня уже случился в тюрьме выкидыш, вероятно, от нервного шока и потому вдобавок, очевидно, что первую свою беременность я еще до встречи с Алешей вынуждена была ликвидировать... На неделю меня отвозили в Бутырскую тюремную больницу, где была леденящая душу и тело абсолютно стерильная чистота кафельного пола и стен, на обед манная каша в алюминиевых мисках и даже белый хлеб. И отличная библиотека – тоже.
...В камерах внутренней тюрьмы большого дома на Лубянке было идеально чисто. Окна выходили во двор, но были снаружи закрашены темно-синей краской и еще были закрыты козырьком, так что дневной свет просачивался сверху в очень скромных количествах – днем в камере было сумеречно. Собственно, это были комнаты с паркетным полом, железными койками с чистым бельем и даже, кажется, с унитазом. Впрочем, боюсь соврать – не помню. Лежать днем не полагалось, а ночью надо было спать с выложенными на одеяло руками, и свет всю ночь не выключался. На прогулку выводили на крышу, огороженную довольно высоким забором, но неба над головой было вдоволь... И хоть это была крыша высокого дома, откуда вряд ли можно было куда-то убежать, вышки по углам прогулочного дворика и колючая проволока наверху каменного забора надежно гарантировали сохранность заключенных от любых неожиданностей... Снизу, с площади Дзержинского, доносился слитный густой шум живого большого города, иногда резко вырывались автомобильные гудки – продолжалась обычная напряженная жизнь...
В коридорах тюрьмы, которыми водили на допросы, были мягкие дорожки, заглушавшие шаги. Конвоиры подавали встречным сигналы загодя, стуча ключами по железным поясным пряжкам или цокая языком. Иногда ставили в «собачий ящик», так заключенные называли деревянные боксы, выстроенные у стен коридоров для того, чтобы заключенного спрятать от идущего навстречу другого заключенного. Изолированность друг от друга однодельцев, этот строжайший тюремный закон со мной чуть было не нарушился – в моей камере вскоре появилась красивая стройная женщина, еще сравнительно молодая, но с явными следами увядания. По ее рассказам и поведению я поняла, что она тоже проходит по нашему делу – она убивалась, что погубила своего пожилого мужа – профессора много старше ее. По этим ее рассказам я вычислила, что именно в ее доме обосновался напарник Зуевича, заброшенный вместе с ним в Москву, он был ее дальним родственником из белоэмигрантов. Все это я слышала мельком от Алеши и, сопоставив с ее рассказами, поняла, кто передо мной. Она не только приняла его в дом, но даже стала его любовницей и больше всего плакала, кляня себя за измену мужу, за то, что погубила его жизнь...
Но, конечно, не только я вычислила, что мы проходим по одному делу, но и следователи тоже. И меня быстренько перевели из этой камеры в другую. В новой камере неожиданно оказались совсем другие порядки: свет по ночам тоже не гас, но под потолком оказалась вместо обычной – синяя лампочка, и спать можно было уютно, укрывшись до подбородка одеялом, и никто не будил среди ночи, требуя выложить наверх руки. В камере стоял письменный стол и на нем – стопка писчей бумаги, карандаши, несколько словарей – русско-китайский, русско-японский, англо-японский и еще какие-то технические журналы на английском языке... Словом, меня посадили в камеру к вывезенной из лагеря (кажется, из Карлага) переводчице с китайского и японского языков. Это была «чеэсировка» («член семьи изменника родине»), досиживающая свой срок. Как ее звали, совершенно не помню. В Карлаге она работала то ли чабаном, то ли кем-то вроде этого. У нее были загрубевшие рабочие руки, загорелое лицо с резкими складками у губ и носа, которое в жару покрывалось крупными и обильными каплями пота. Она все время промокала лицо вафельным тюремным полотенцем... Помню, что мне было ее очень жалко за почти всегда потное лицо. (Через много лет такая же беда приключилась и со мною...)
На обед мне приносили обычную тюремную еду, а ей почти что ресторанную. Она разрешила мне пользоваться бумагой и карандашом, но рисовать я не умела, а писать было некому... Ее привезли из лагеря специально для какого-то срочного перевода трофейных или разведчиками полученных военно-технических документов, возможно, обещая снижение срока, а мое присутствие ее, возможно, даже как-то развлекало.
...Но следствие по моему делу заканчивалось, и в конце августа меня перевезли в Бутырскую тюрьму.
Помню ощущение, что Алексей где-то недалеко – это было и в «воронке», где меня втиснули в тесную гулкую железную кабинку-одиночку, и в громадном, похожем на вокзальное, помещении какого-то приемного зала Бутырской тюрьмы. Помню высокие своды, цветной кафельный пол, снова собачьи будки боксов и нестерпимо острое чувство, что Алеша где-то здесь, рядом... Крикнуть, подать голос я не решилась. То ли под утро, то ли под вечер попала в большую общую камеру, где были широкие деревянные полати-нары, но, кажется, без верхних вагонок. Хлеба, помню, давали по 400 грамм на пайку. Почему так точно помню? Потому что кому-то заказала связать варежки, распустив какую-то шерстяную тряпочку – может быть, шарфик, а может быть, ту самую диванную наволочку, что служила мне головным убором... Близилась зима, а я не знала, что меня ждет и может ждать, куда попаду, и на всякий случай стала готовиться.
Вязали умелицы самодельными деревянными крючками, выточенными из щепочек, отколотых от полатей-нар стеклышками, невесть как попавшими в камеру... Конечно, все это делалось тайно. Для того чтобы расплатиться за работу пайкой хлеба, я мысленно делила ее при получении на три части, потом суровой ниткой (а может быть, такой же заточенной в виде ножика щепкой) отрезала одну треть, сохраняя ее до завтра, а две трети съедала. На следующий день проделывала то же самое, но теперь сохраняла до завтра больший кусок. А на третий день я уже могла отдать целую пайку. Там, в общей камере Бутырок я вычислила еще одну несчастную, имевшую отношение к нашему делу – немолодую измученную чью-то мать...
И все дни отчаянно тосковала об Алеше.
* * *
...В один из сентябрьских дней меня вызывают «с вещами». На дворе еще тепло по-летнему, и я радуюсь зеленой траве, ухоженному, с цветами на клумбах, дворику тюрьмы. Меня привели в какую-то старинную круглую башню, видимо «Пугачевскую», в одиночку. Подробностей не помню, кроме одной – стерильная чистота. Через некоторое время вызывают снова, уже без вещей. В каком-то коридоре, довольно широком и светлом, – окна без козырьков, мимо проводят молодую беременную женщину с распущенными по плечам пепельными волосами. Потом догадалась – это и есть Марианна Шолохова. В тот день, видимо, всем по этому делу объявляли приговор. Потом узнала, что Марианна получила вместо вышки – 10 лет. Жизнь ей спас еще не родившийся ребенок. А спустя много лет, уже в Джезказгане, услыхала от одной заключенной (ее звали Анжеликой, привезли к нам из Карлага, где она была в культбригаде, – хорошенькая, она немного пела и танцевала), что у них в культбригаде была московская пианистка Марианна Шолохова, у которой где-то в Москве у родных рос сын, родившийся в заключении. Это было примерно в году 50-51, Марианна досиживала свой десятилетний срок. Вероятно, после 20 съезда она вернулась в Москву или куда-нибудь поблизости. Больше о ней никогда ничего не слышала. Надеюсь, если она жива, что ее так же, как меня, реабилитировали по этому делу...
Где зачитали мне приговор, в каком помещении, я не помню.
Особое Совещание НКВД определило мне три года ИТЛ по ст. 58 пункт 12 – недонесение о преступлении. Но в приговоре были и слова о замене срока направлением в Действующую армию. Не помню, чтобы я просила об этом – видимо, было какое-то положение насчет малосрочников во время войны. Возможно, учли молодость и то, что 17 октября я добровольно уходила в армию...
В тот же или на следующий день после приговора посадили в "воронок" и отвезли в Самарский переулок, на Садово-Самотечную, на сборный эвакуационный пункт, где находился резерв среднего и младшего медперсонала. Подробностей этого помещения и каких-нибудь других об этом времени память почти не сохранила. Помню только, что занимались строевой подготовкой – много маршировали. Выделялась группа рослых, загорелых и краснощеких красивых девушек. Они, можно сказать, были отличницами – красиво и слаженно маршировали, по-солдатски лихо пели при этом. Возможно, это была какая-то баскетбольная или волейбольная команда. Еще запомнилось – объявились у нас морячки – медсестры с Тихоокеанского флота, морская пехота. Эти были аристократки – все ухоженные, подтянутые, щеголеватые. У каждой по несколько смен обмундирования индивидуального пошива – синяя и белая фланелька и форменка, рабочая роба, ладные юбочки, теплые бушлаты, синие и белые матросские воротники – гюйсы, как они их называли, аккуратные хромовые ботиночки строго по размеру. Держались они особняком, довольно надменно.
Вскоре я получила назначение – в формирующийся полевой госпиталь на ул. Басманной. Там и меня обмундировали – ладная гимнастерка, берет со звездочкой, форменная юбка, кирзовые сапожки, ремень, даже, кажется, с портупеей. Ходила по Москве, когда посылали с каким-нибудь поручением (меня, как москвичку, знающую, куда и как добираться, часто посылали), старательно отдавая честь встречным военным. Как-то послали в госпиталь Московского гарнизона, где работал отец моей подруги. Было очень приятно идти осенней Москвой (стояло бабье лето), чувствуя себя такой же подтянутой и ладной, как флотские девочки-медсестры... Но это длилась недолго – когда получили все необходимое оборудование (палатки, носилки, инструментарий и прочее), меня быстренько откомандировали снова в Самарский переулок, на тот же сборный эвакопункт. Морячек там уже не было, команда рослых спортсменок все еще маршировала, а меня тут же направили на Московский почтамт. Здесь уже не обмундировывали, кажется, только выдали на смену синий рабочий халат и поставили на сортировку посылок. Тогда я научилась ловко и по-почтовому грамотно их перевязывать.
Еще помню, отвозили в какую-то авиачасть, в БАО (батальон аэродромного обслуживания). Оттуда завернули в Самарский переулок в тот же день. В столовой, куда меня хотели определить то ли в судомойки, то ли в официантки, молодые летчики получали большие плитки толстого серого шоколада. Может быть, именно это запомнилось потому, что все время хотелось есть. Потому же, наверно, запомнился и очень сытный обед прямо у полевой кухни – обжигающий красный густой борщ и пшенная каша с мясом – алюминиевые миски были щедро наполнены до краев и в морозном воздухе дымились паром...
Октябрь прошел в таких коротких направлениях в часть и возвращениях на эвакопункт. Видно, все это – и госпиталь, и почтамт, и БАО – все было не для меня, осужденной ОСО НКВД. В день очередного какого-то возвращения на эвакопункт (направляли, возможно, еще куда-то, но я не запомнила, да и эти данные потом уточнила по своему следственному делу) меня, на этот раз вместе с командой мужчин, привезли на Белорусский вокзал – гомонящий, залузганный семечками, переполненный гражданскими беженцами и воинскими командами. Я, наконец, получила направление туда, куда мне полагалось: во 2-ю Армейскую отдельную штрафную роту 41 стрелковой дивизии 40 армии – на Западный фронт. Располагалась эта часть в Орловской области за городом Ельцом у станции Верховье на разъезде Дичня. Было это уже в ноябре.
Еще не было таких штрафных рот, какую описал Морис Симашко в повести «Гу-га», не было еще ни заградотрядов, ни штрафных офицерских батальонов. Новорожденная система армейских дисциплинарных частей только еще создавалась. Наша рота формировалась в штабе армии. Меня сразу же направили в распоряжение начальника санчасти роты, худого высокого старшего военфельдшера. Санчасть размещалась в большой, хорошо оборудованной землянке. Начальник оказался человеком аккуратным, педантичным, но, к счастью, без командирской фанаберии. Но он был службист и, помню, был очень шокирован одним эпизодом: в землянку вошел какой-то полковник, только что прибывший из Москвы, – мы вскочили, вытянулись, начальник отрапортовал, как положено. Но полковник, оказалось, зашел только погреться, к нам отношения не имел – это был какой-то московский вузовский преподаватель, только что мобилизованный в политработники. Прихлебывая горячий чай, он стал меня расспрашивать – кто я и откуда, нечаянно разговорились. Когда он ушел, мой начальник спросил – это что, твой знакомый? А узнав, что впервые увидела этого человека, откровенно возмутился: я посмела разговаривать, не соблюдая никакой субординации, а просто как недавняя студентка с недавним преподавателем.
* * *
У отличного поэта Юрия Левитанского одна из книг называется «Кинематограф», и есть в ней прекрасное стихотворение, ставшее даже песней, – «Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!» Я бы заметила, что это очень точно сказано – но в «киносерпантине» длиною в жизнь запоминаются часто лишь отдельные мозаичные кадры. Вот и мне помнится ночь вывода нашей части на передовую – идем цепочкой друг за другом сперва по полю, потом по лесу. Ночь, но какая-то сизо-синяя, и если надо отойти в поле «по нужде», то все равно все видно, а я – единственная женщина в роте. Но у меня уже был небольшой «опыт» лагеря в Белых Столбах, где провела два месяца за опоздание: конвойные, отворачиваясь, разрешали – «ступай за спину...»
Пришлось бы мне худо, если бы рядом не оказался бывалый человек Сережа Нырков – отворачивался, заслоняя меня, настилал в лесу елового лапника, когда был небольшой привал и мы – спина к спине – немного подремывали.
Когда совсем рассвело и наши командиры сориентировались на местности, оказалось, что мы ночью чуть было не забрели прямо в расположение гитлеровцев: тот, кто выводил нас на передовую, запомнил ориентиры ранней осенью, а сейчас все было заснежено.
Часть наша стояла в долговременной обороне под разъездом Дичня в Орловской области, а в феврале 43-го перешла в наступление. Недавно в какой-то статье я нашла объяснение одному странному обстоятельству этого наступления – гитлеровцы вдруг без видимой причины начали отступать. Наши части, конечно, бросились им вдогонку, но ни авиация, ни артиллерия в этом наступлении не участвовали, и я часто думала – в чем же тут было дело? А в статье, что я недавно прочла, было рассказано, что в этом районе должна была дислоцироваться, сменяя нас, 16-я армия генерала Рокоссовского, которого гитлеровцы так боялись, что предпочли отступить, чем с ним сражаться.
В этом наступлении погиб Сережа Нырков. Еще в начале боя прибегал возбужденный, хвастал, показывая вмятину на каске: «я – дальневосточник, охотник, от пули заговоренный...» У него, и вправду, была винтовка с оптическим прицелом, он был снайпером. Но случайная пуля все же пробила его каску прямо в лоб, и это была очень горькая весть, потому что никогда больше ни на фронте, ни в лагере я не встречала такого бескорыстного и надежного человека, каким был Сережа. Пожалуй, одного все же встретила в 55 году – своего будущего мужа. Но об этом – в свой черед. А здесь немного о Сереже.
Надо сказать, что он, братски опекавший меня, был осужден за убийство. Вообще наша штрафная рота состояла в основном из бытовиков, попросившихся на фронт, чтобы «смыть вину кровью». И Сергей, отсидевший уже больше половины своего десятилетнего срока, тоже подал заявление. Не знаю, было ли правдой то, что он рассказал о своей вине – служил на флоте, приехал в отпуск, приуроченный к свадьбе старшего брата. На свадьбе случилась большая драка, в которой брат убил своего обидчика. Сергей взял вину за убийство на себя – не знаю, что в этой истории было правдой, что романтическим вымыслом, очень похожим на сердцещипательные, мелодраматические истории из блатного фольклора. Выросший в дальневосточной тайге, он до флота был охотником и в лагере быстро стал кем-то вроде егеря при большом начальстве, был расконвоирован. Словом, жил, по его же словам, «как сыр в масле».
Мне, горожанке, да еще недавней студентке Литературного института, когда-то отчаянно завидовавшей девушкам, уезжавшим на Дальний Восток по призыву командирской жены Валентины Хетагуровой (их так и звали – хетагуровки), все это было необыкновенно интересно. В 35-37 годах надо было осваивать Дальний Восток, а женщин там было немного. Об этом пелись песни, писались книги, снимались фильмы – «Девушка с характером», дебют Валентины Серовой. Мне шел пятнадцатый год, и я очень терзалась невозможностью осуществить этот романтично-патриотический порыв. Я дружила тогда со старшей девушкой из первого подъезда нашего дома Лелей Евполовой, и мы вместе мечтали о Дальнем Востоке. Но Леля уже училась в аэроклубе – тоже романтичное явление тех лет – все в Аэрофлот! – «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...», любимая песня-марш тех лет. Леля хотела закончить аэроклуб и потому на Дальний Восток не уехала, а тут подоспели события 37-38 годов, и меня переселили из дома № 7/9 по Волкову переулку, и я так и осталась в неведении о судьбе моей подруги.
По всему этому мне были очень интересны рассказы Сережи о Дальнем Востоке, и мы подолгу разговаривали с ним. Мешало мне в этих разговорах только одно – Сережа даже не замечал, что все время матерится. Точнее, даже не матерится, а просто разговаривает матом. И не то, чтобы это меня шокировало – я уже успела в 40-м году отсидеть два месяца по указу за опоздание в лагере «Белые Столбы», где прелестные юные блатнячки тоже так разговаривали. Притом, когда я однажды попыталась говорить с ними на том же «языке», оборвали меня и еще прикрикнули: «Тебе не личит!», то есть не идет так разговаривать. Так что Сережин способ общения не столько шокировал меня, сколько мешал мне. Когда я сказала ему об этом, он даже извинился, объяснив, что так ему легче, привычней выражать свои мысли, и обещал следить за собой. Но, конечно, все время забывал, и я перестала обращать на это внимание.
Однажды, когда мы шли вдвоем по ходам сообщения (так назывались узенькие окопы, по которым из расположения добирались до передовой), он остановил меня и сказал: «Сестренка, скоро будет наступление, это очень опасно (Сережа был связным командира роты и многое знал) – давай я стрельну тебе в ногу, в икру, никто ничего не узнает, а ты, раненая, «искупишь вину кровью» и поедешь в тыл». Его предложение меня огорошило. «Сережа, – сказала я, – а что если бы такое я тебе предложила?..» «Ну, я другое дело, – ответил он, – я мужик, а ты девчонка...» «Нет, – сказала я, – твое предложение мне не подходит, пусть будет, как будет». И мы пошли дальше по ходу сообщения и никогда больше не возвращались к этому разговору.
Я вспоминаю этот эпизод не для того, чтобы похвастать своей «храбростью», мужеством и т. п., а лишь для того, чтобы подробнее рассказать об этом благородном и чистом человеке, потому что – повторюсь – никогда больше ни на фронте, ни в лагере я не встречала такого бескорыстного и надежного человека, как Сережа Нырков. Только своего будущего мужа...
* * *
Воспоминания о войне – сколько их уже было – и знаменитых военачальников, и рядовых, но у каждого из участников – «своя война». И не важно – сколько ты был на войне – день, неделю, год... Нет, конечно, очень важно, но ведь большая беда могла случиться и в самый первый день, как это случилось с московским студентом Володей: буквально в первый же день, когда нашу часть вывели на передовую – в окопы «активной обороны», от которых до переднего края гитлеровцев было рукой подать – метров 800, и окопы эти были уже пристреляны гитлеровскими снайперами, пуля такого снайпера снесла ему череп. Когда его принесли в землянку санчасти (тоже 700-800 метров от переднего края, только в глубину, в тыл), он еще дышал, но вряд ли его довезли живым до полкового медпункта...

Когда впервые пришлось знакомиться с расположением нашей части, а попросту – с окопами нашей активной обороны, мне довелось сопровождать своего начальника – ст. военфельдшера – высокий лейтенант быстро, почти бегом шел по ходам сообщения, старательно пригибаясь, я едва поспевала за ним и тоже старательно пригибалась – вероятно, ему, так же как мне, было страшновато... А через пару дней в роту прибыл новый командир – девятнадцатилетний, решительный, небольшого росточка белобрысый лейтенант (тоже, по-видимому, «краткосрочник» – были тогда не только краткосрочные курсы медсестер, но и офицерские). Он собрал все ротное начальство – командиров взводов, замполита, начальника санчасти, который прихватил с собой и меня, и бегом повел на передовую. Там он, наоборот, умерил шаг и не спеша проверял все огневые точки и прочее. Он шел неторопливо, чуть вразвалку, всем своим видом демонстрируя безразличие к возможным попаданиям случайных немецких пуль, и только в некоторых местах, о которых было известно, что они уже пристреляны снайперами, пригибался, стараясь проскочить их побыстрее.
Отчетливо помню, что мне не то, чтобы не было страшно, но было стыдно показать, что я боюсь. Страшно мне стало однажды, пару месяцев спустя. В одном из взводов на передовой был убит санитар, и какое-то время мне пришлось его замещать и жить в землянке на самой передовой. Мои санитарные «боеприпасы» кончались, и я отправилась за ними в расположение части. Надо заметить, что ходить в одиночку с передовой в расположение было строго-настрого запрещено. Но попутчика не нашлось, а бинты и индивидуальные пакеты кончились. Пока я шла ходами сообщения, где были бойцы, все было нормально. Но когда пришлось вылезти из окопа и пойти по тропинке в чистом снежном поле, стало так страшно, что я тут же забралась в ближнюю воронку... Как долго я там находилась, не помню – двое бойцов шли в расположение, вытащив из воронки, хорошенько меня отругали за то, что отправилась одна, а мне их сердитые слова казались музыкой.
Выглядела я тогда, вероятно, очень смешно: в белом маскхалате, надетом поверх ватных брюк и телогрейки, перепоясанном ремнем с висящими на нем двумя гранатами-лимонками. Самым смешным было то, что кидать гранаты я не умела, так же, впрочем, как и стрелять.
Еще вспоминается и такое, не имеющее отношение к боевым действиям, показывающее мое субъективное самочувствие: когда осенью выходили на передовую, я была обута в ботинки с обмотками. Ватные брюки с внутренней стороны колен протирались от ходьбы, и вид был не очень аккуратный, хотя я все время чинила эти прорехи. Поэтому я очень обрадовалась, когда нас переобули в валенки и выдали маскхалаты. А уж то, что я почувствовала, когда девушка из соседнего батальона сделала мне царский подарок – сапожки по ноге, хотя и поношенные, поношенные же гимнастерку и юбчонку из какой-то дешевой бумажной ткани – для описания этого у меня не хватит слов. Переодевшись в обновы, я ощутила себя как бы в вечернем платье...
Как звали эту милую девушку из соседнего батальона – Поля или Женя – не помню. Но история ее хорошо запомнилась, тем более, что позже в лагере я подружилась с медсестрой Клавой Коптевой, с которой происходило на фронте нечто похожее. Но о Клаве позже, а сейчас – история моей недолгой подружки из соседнего батальона.
Командир отдельной штрафной роты по положению подчинялся непосредственно только командиру дивизии, а в бою штрафная рота придавалась одной из дивизионных частей. Такой частью и стал соседний батальон, разместившийся рядом с нами. Там тоже оказалась одна девушка – эта Женя или Поля. И естественно, что мы подружились. Бледненькую и хрупкую, ее, в отличие от меня, ставили по ночам часовым на пост у землянки, хотя она не была штрафницей. Это меня очень удивило, и в ответ на мои расспросы Поля-Женя рассказала свою историю: в штабе армии у нее был жених, молодой командир. Они познакомились на войне, полюбили друг друга, она стала переписываться с его мамой, и, в конце концов, они решили пожениться. Но такие вольности тогда не поощрялись, и их разлучили, отправив ее в тот батальон, что расположился рядом с нами. Командир батальона стал бесцеремонно добиваться ее близости, но безуспешно. Тогда он не придумал ничего лучшего, чем ставить ее по ночам под ружье часовым у землянки.
Узнав об этом, я возмутилась и посоветовала ей обратиться к командиру дивизии и все рассказать. Но командир ее батальона тоже узнал о моем совете и решил наказать не только ее, но и меня, избавившись от неудобной советчицы. Наверняка он знал, как и почему я попала в штрафную роту, и придумал какую-то фантастическую по глупости историю, что я занимаюсь антисоветской агитацией. Подробностей его клеветы совершенно не помню. Помню только, что наш юный лейтенант вызвал меня и сурово допросил – правда ли это. Я рассказала ему историю своей бедной подружки и объяснила, для чего соседнему комбату надо меня оклеветать. И наш командир, умница, поверил мне и отпустил с миром. О дальнейшей судьбе этой девушки я так и не узнала, так как вскоре началось наше наступление.
В книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», в повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» все правда, все достоверно о женщинах на войне. Их было около миллиона – и мобилизованных по специальностям, и добровольцев: врачи, медсестры и санитарки, зенитчицы и связистки, снайперы и машинистки, прачки и пекари.
Война была жизнью страны. Оставалось жизнью на фронте и все, что случалось в мирной жизни, – любовь и страсть, влюбленность и случайные связи. В лучших книгах про войну – в «Звезде» и «Весне на Одере» Э. Казакевича, в «Диком меде» Л. Первомайского, в «Жизни и судьбе» В. Гроссмана, в повестях В. Кондратьева о многом рассказано. Но многое еще ждет своего воплощения. Помню откровенные строки Константина Симонова в одном из стихотворений военного времени:
На час запомнив имена, –
Здесь память долгой не бывает, –
Мужчины говорят «Война» –
И наспех женщин обнимают.
Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали «милой»,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила...
Я еще не знала этого стихотворения, когда в 1943 году в ожидании ребенка написала стихотворение, которое нечаянно получилось как бы оборотной стороной медали, своего рода ответом этим строчкам. Я не знала, что рожу девочку, и потому писала (а, может быть, мечтала?) о сыновьях:
Война дала нам безотцовых сыновей,
тоску бессонниц, имена убитых,
калек на перекрестках площадей
и горький воздух на полях изрытых.
Когда мальчишки наши подрастут,
рожденные вчера, и завтра, и сегодня,
они, мужчины первые в роду,
не проклянут ли нас проклятием господним –
за то, что теплоты отцовских рук
ребята наши никогда не знали,
что про войну, недетскую игру,
им только мы, их матери, сказали.
Мы в летний вечер сядем у окна,
ненужного не зажигая света,
вечерний воздух мы вдохнем сполна
и приготовимся к ответу.
И мальчикам, не знающим отцов,
расскажем, как в минуты перед боем,
заглядывая каждому в лицо,
вставало одиночество, такое,
что было все равно, кому отдать
тепло руки и взгляда, губ и тела,
чтобы хотя б мгновенье ощущать,
что ты не одинока до предела...
И пусть они осудят – все равно
у них мы не попросим оправданья:
последняя война начнется вновь, –
тогда, поняв, они придут к нам сами.
Это стихотворение никогда и нигде не было опубликовано, только в поэму «Новогодняя ночь» я много лет спустя взяла из него несколько строк в главу «Год 43-й», чуть переиначив одну строчку
Да, в тихие минуты перед боем...
Именно одиночество, не женское, нет – человеческое, та потребность перед лицом ежеминутной возможной гибели ощутить, что ты жив, поверить, что тебя не убьет и не ранит, наверное, многих и многих на войне, а не одну меня, подводила к случайной близости. Эта близость мужчин и женщин, живущих рядом со смертью, бывала спасительной...
Так и получилось, что, любя Алексея, терзаясь неведением о его судьбе, я родила 23 октября 1943 года свою бедную Алену. Я и назвала-то ее Еленой, чтобы называть потом Аленой, Алешей... Но, вероятно, есть Провидение, есть Судьба, да и сама я еще внутренне не созрела в ту пору для материнства. Отца ее убили в том же наступлении, о котором я уже говорила.
* * *
У санинструктора есть бинты, вата, йод – самый минимальный набор для оказания первой помощи, и порой приходилось спасаться подручными средствами: у раненого не было даже заметно входного отверстия пули, но он, еще теплый, уже не дышал. И пульс нигде не прощупывался... Но все же на виске отыскалась чуть пульсирующая жилка, сосудик. Теперь раненого надо было срочно обложить грелками, но в землянке санчасти не намного теплее, чем за дверью, – декабрь. А рядом, в соседней землянке кухня, только не нашей, а чужой части. Бегу туда, собрав несколько фляжек:
– Ребята, срочно нужен кипяток!
– Нету, сестра, все пустили в котлы на щи…
– Наливайте во фляжки щей!..
По фляжке – на грудь, к сердцу, к ногам, к рукам, укутала, увезли… Довезли ли живого?..
Лодка – долбенка, которую волоком тащишь по снегу, тяжела сама по себе, а если в ней раненый – вдвое, раненый всегда тяжелей здорового.
Но были, как всегда бывает в жизни (а война, ведь, тоже жизнь), и забавные ситуации: приходит Сашка, удалой парнишка, «душа общества», но сейчас ему не до шуток – изводит зубная боль. Кладу в дупло ватку с йодом, с какими-то сердечными каплями (спирт!) – не помогает.
Ну, тогда спой! – требует Сашка: в дивизионной газете опубликована поэма Якова Хлемского, которая легко поется на мотив песни «Живет моя отрада…» Я стала ее напевать, ребята услышали, понравилось, просили иногда спеть:
Живет моя отрада
В высоком терему –
Туда и за декаду
Не долететь письму…
…На улице метелица
И впрямь метет, бела
Перед порогом стелется,
Траншеи замела.
А если кто появится,
За ним заносит след…
Но где она красавица,
Красавицы-то нет…
Где очи голубые,
Каштановая прядь,
В каком углу России?
Отсюда не видать…
…Когда вернусь, не ведаю,
Но знаю я одно:
Мне в дом родной с Победою
Вернуться суждено…
Пришлось петь одному – единственному слушателю. И я поняла, что выражение «зубы заговаривать» имеет буквальный смысл...
Позже, в наступлении, этому Сашке оторвало полступни – когда гитлеровцы отходили, они минировали все, что оставляли: случайно уцелевшие избы, землянки. Хотя в основном после них оставались только остовы сгоревших домов да печные трубы на пепелище...
Но «шебутной», как говорится, Сашка не утерпел – заскочил в один из уцелевших домов и схватил какую-то забытую детскую игрушку. По счастью – остался жив, но вот полступни не стало...
Были и трагикомические ситуации: во время наступления в уцелевший дом свезли с десяток раненых – у того левая нога, у того правая, у этого – пробита грудь, словом, неподъемные. А гитлеровцы пристрелялись к этому порядку домов малой артиллерией, кажется, «сорокапяткой», и хотя снаряды небольшие, но кладут их довольно точно, и стекла вылетают... А люди лежат молча, обреченно – подняться ведь не могут. Лихорадочно думаю – что же делать? Придумала!
– Ребята! У кого есть ложка, свою потеряла, есть хочу!
Сижу посреди избы, хлебаю большими глотками несоленую (на кухне кончилась соль, подвезти в наступлении не успели) густую затирку из темной муки. Смотрят, молчат, думают: наверно, тронулась с испугу... Потом кто-то замечает вслух:
– Ну, и здорова же ты жрать, сестренка! – Смеюсь вместе со всеми – цель достигнута, перестали обреченно вслушиваться: недолет, перелет... Когда стемнело, к дому подогнали подводы, увезли в полковой медпункт.
Мозаика воспоминаний пестра – складывается из крохотных ярких частиц, зацепившихся в памяти. Но этот рассказ не специально о войне, ставшей частью моей жизни, как у всех, кто был жив в это время, а о судьбе моей семьи, о моей судьбе в те далекие годы...
В конце апреля 1943 года меня демобилизовали, и я осенью родила дочку. Отца ее убили в том же наступлении, что и Сережу Ныркова. А в марте 44-го и ее не стало, она и родилась-то дистрофиком, к тому же у меня вскоре после ее рождения пропало молоко. Да и откуда ему было взяться – по дополнительной продуктовой карточке для беременных давали в месяц 6 литров соевого молока, граммов 200 или 300 сладкого, вовсе не обязательно сахара, это могло быть повидло или печенье, и по 600 граммов мяса, талоны на него чаще всего отоваривались яичным порошком. Главным и единственным витамином была морковка с базара, а за талончики на 5-10 граммов жиров в соседней с институтом столовой наливали бидон так называемой лапши – «горячей и соленой», где лапшинка догоняла лапшинку...
Те четыре месяца, что прожила на свете моя Аленка, вспоминать трудно и горько – буквально с первых же дней по выходу из роддома я должна была ее носить в ясли. Вязанка дров на рынке стоила половину моей стипендии, и потому я не каждый день, и даже не через день купала дочку, а самое частое – раз в неделю. И что хуже всего – то ли от простуды, то ли от недоедания у меня пропало молоко.
Когда она родилась, мне было 22 года – для материнства лучшее время. Но, видимо, беды последних пяти лет не столько закалили душу, сколько изнуряли, высушивали – не успела я созреть душой для материнства. Осмысление этой потери пришло много позже, когда, уже выйдя из лагеря, я увидела девочку Алену, тезку и почти ровесницу моей дочки...
Арест родителей, исчезновение их из моей повседневной жизни рождало то отчуждение, которое потом так и осталось в отношениях с мамой, когда она вернулась из лагеря. Ее отняли у меня как раз в ту пору, когда шестнадцатилетняя девушка более чем когда-либо нуждалась в родной душе, в руководстве жизнью...
Нет, свет не без добрых людей – вокруг меня и тогда, и потом нашлось их много, принимавших так или иначе доброе участие в моей судьбе, но самого важного – материнской заботы и любви я была тогда лишена, как и тысячи тысяч мне подобных – детей репрессированных.
И даже когда стала взрослой и заканчивала институт, а мама жила на сто первом километре в Александрове Владимирской области, я и тогда не имела просто физической (и материальной – тоже) возможности ездить к ней так часто, как надо было для того, чтобы мы сблизились и снова породнились душой.
Как большинство детей, я не понимала своей мамы тогда, и теперь казнюсь в душе своим отчуждением от нее, хотя и не виновна в нем... Не напрасно ведь сказано – «Жестокий век! Жестокие сердца!..»
* * *
Схоронив девочку, я продолжила учебу в институте, но маме все еще не могла помогать, хотя периодически прирабатывала – то писала тексты для Совинформ-бюро, то летом работала в Московском Доме кино.
Примерно в конце ноября 44 года в Литинститут вернулся из газеты 5-й танковой армии поэт Виктор Урин, вернулся по ранению – рука, кажется правая, была в гипсе и на перевязи. С ним приехал за типографским оборудованием капитан Зись, снабженец редакции. И еще было у капитана задание – привезти вольнонаемных корректоров.
Возвращение с фронта и рождение, а потом и смерть (от дистрофии и воспаления легких) моей 4-месячной Аленки, продолжение учебы в институте ни в коей мере не уменьшили моей внутренней потребности быть в гуще событий, ощущать, что хоть в какой-то малой части я могу принять непосредственное участие в войне. Моя невестка как-то недоверчиво спросила меня: «А почему вы уходили в армию?» Имелось в виду – добровольно, тот первый уход в дни московской паники 17 октября, уход неудачный, который закончился возвращением в Москву 27 ноября. Ну как объяснить современной молодой женщине, что это было естественным движением души для нашего поколения. Все "объяснения звучат высокопарно и оттого – фальшиво. Просто иначе не мыслилось: в дни военной беды – надо на фронт. Почему шли в ополчение больные и немолодые московские профессора? Почему весь мой курс – кто по повестке, а кто – добровольно – ушел на войну? И когда мне пришлось вернуться из своего неудачного «похода» на войну, в Литинституте я попала уже на другой курс – мой был весь на фронте.
А совсем недавно однокурсница с этого вновь набранного в октябре 41-го курса спросила меня: «Почему ты всегда выбирала экстремальные пути?» Что могла я ей ответить? Что ни тюрьму, ни лагерь никто добровольно не выбирает, что, видимо, такова моя «планида», что, видимо, уход на войну – потребность души в ту пору и стечение обстоятельств: уйти в дни паники в армию с надеждой (тогда не сбывшейся, к сожалению) попасть на фронт – наверно, и романтика, так свойственная юности, сыграла не последнюю роль, и то, что, оставшись в 16 лет без родителей, без семьи, я была сама себе хозяйка, и ничто и никто – некому было – меня не удерживали...
Я прочла своей однокурснице в ответ одно из стихотворений, написанных в последние годы, где, мне кажется, имеется ответ на ее недоумение и на вопрос моей невестки; оно до того дня не было нигде опубликовано кроме журнала «Литературное обозрение». Здесь оно опубликовано полностью в «Алма-Атинской тетради», отсылаю к нему читателей – оно, кажется мне, дает ответ на эти вопросы. «Разговор в очереди», послуживший ему эпиграфом, – это мой разговор с молодой женщиной, и именно он вызвал к жизни это стихотворение. Он, и еще многие известные мне случаи сердечных приступов у участников войны в ситуациях, аналогичных моей, процитированной в эпиграфе. Стихотворение заканчивается строчками:
Так перед кем и в чем мы виноваты,
случайно уцелевшие солдаты?
Быть может, кто-нибудь ответит мне?
Но это повод совсем для другого разговора – о поведении некоторых фронтовиков, когда нам дали ряд льгот, о разности менталитетов разных поколений одного народа, и здесь ему не место, так как эта повесть совсем о другом.
Когда Витя Урин, с которым мы тогда были добрые приятели, рассказал мне о возможности уехать в редакцию, я загорелась – вот он, еще один случай, еще один шанс вернуться на войну, пусть даже вольнонаемной... Думаю, что, наверно, не последнее место в этом желании занимала жившая во мне потребность все узнать, испытать самой. Эта писательская потребность, не всегда осознаваемая, чаще интуитивная, всегда во мне жила и позже заставляла меня вызываться мыть пол в вагонзаке, а в эшелоне, везущем в лагерь, – дежурить ночью в теплушке...
Вот почему, отдав ключи от своей комнатенки Вите Урину, которому негде было жить в Москве, кроме институтского общежития (а пребывание в нем очень осложняло возможности личной жизни), и попрощавшись с друзьями, я назавтра уехала из столицы. (Помню замечательную прощальную вечеринку у красавицы Норы Футорян, ставшей впоследствии известным писателем-анималистом Норой Аргуновой, вечеринку, устроенную в честь моего ухода на войну – с большой кастрюлей традиционного студенческого винегрета, разномастной случайной посудой для еды и питья и замечательным, волнующим настроением. Нора жила в комнатенке, вроде моей – метров 6-8 квадратных, – половину которой занимала тахта.) Отличие от моего жилья заключалось в том, что это была комната для домработницы в большой наркоминдельской квартире, где прежде жили Норины родители, тоже репрессированные в 37-38 годах. В отличие от меня, ее никуда не переселили, а просто выделили ей эту комнатку. Дом был почтенный, старый, красивый. В нем до переезда на Смоленскую площадь размещался Наркоминдел – в одном крыле, в другом – жили семьи некоторых сотрудников. Сейчас в этом здании на углу улиц Лубянка и Кузнецкий мост разместился Конституционный Суд РФ.
Со мной вместе собрался вольнонаемным корректором и мой товарищ поэт Леня Чернецкий. Он был белобилетником по причине спондилита (был горбат), но та самая писательская потребность все увидеть и узнать, о которой я уже писала выше, была свойственна не мне одной.... Она заставила хромого и тяжело больного поэта Анисима Кронгауза прорваться корреспондентом «Комсомолки» на Сталинградский фронт, а горбатого Леню Чернецкого поехать со мной во фронтовую редакцию, и в этом ничего удивительного по тем временам не было. Все увидеть и узнать самому – было естественной профессиональной потребностью... Вот почему погожим осенним утром мы с Леней сели каждый в кабину громадных фургонов студебеккеров. В кабину головного сел капитан Зись, и мы отправились во фронтовую редакцию 5-й танковой армии «За отвагу».
Как сожалею я, что не вела записей и дневников, не выработала такой привычки! Как завидую замечательному прозаику Елене Ржевской, дружбой с которой горжусь много лет – она, помимо большого таланта, потому и стала таким заметным явлением в российской военной прозе, что всю жизнь следовала буквально завету Юрия Карловича Олеши – «Ни дня без строчки!», вынесенному им в заглавие книги о писательском мастерстве. Впрочем, возможно, Лена не знала этого завета, когда в 37 году, став студенткой ИФЛИ, начала вести свои записи... Так и по сей день – она ведет чуть ли не ежедневные записи того, что кажется ей существенным и важным... У меня таких записей нет (и не было, увы), и потому мои воспоминания мозаичны, отрывочны, и скорее всего – поверхностны. Тем не менее, Литва запомнилась – густой зеленью рощ и рощиц и непривычным для меня своеобразием редких хуторов, разбросанных далеко друг от друга. И еще (так мне показалось) – убогостью их: крытые соломой крыши, ветхие какие-то строения... Но внутри своеобразный, непохожий на российский, уют – домотканые шерстяные покрывала с национальным орнаментом (почти всегда полосатые с удивительно гармоничным подбором цветных шерстяных нитей); кастрюли с выпуклым дном, чтобы удобней было ставить прямо в отверстие плиты поближе к огню (одна такая у меня до сих пор сохранилась из лагеря – когда шло массовое освобождение в мае 56-го и зона пустела, – знакомые литовки оставили мне – одна такую кастрюльку, другая – такое же шерстяное покрывало, какие я видела на хуторах. Остатки его до сих пор «работают» у меня половичком). И еще запомнился «цеппелинай», национальная еда: большие продолговатые клецки, плавающие в свином сале с жареным луком. Наверно, запомнилось с голодухи...
Были большие и меньшие местечки, и одинокие часовенки с католическими крестами и истомленным муками Иисусом, а то и отдельные кресты на перекрестке двух проселков.
Ехали с неделю и приехали в местечко Вайноде-Бата, расположенное в Латвии на границе ее с Литвой.
Расположение редакции запомнилось подробнее. Именно редакции, потому что за то короткое время, что мне довелось там пробыть, я за пределами редакции почти не бывала. Это была какая-то не бедная в прошлом усадьба: белый дом в два этажа, даже с колоннами у входа. Стояла она в запущенном парке, рядом в двух сараюшках тарахтел электродвижок и расположилась наборная касса. На веревках в стороне сушилось чье-то выстиранное обмундирование. Нам с Леней очень обрадовались – редакция 5-й танковой армии «За отвагу» была как бы маленьким филиалом Литинститута: кроме Вити Урина, в ней работали наши студенты Миша Луконин и Петя Хорьков. Главным редактором был, кажется, сибирский поэт Леонид Решетников, а может быть, он был просто старшим ведущим литсотрудником. По крайней мере, однажды, в один из нечастых моих приездов в Москву, он узнал меня в Союзе писателей на Поварской, окликнул и напомнил, где мы встречались...
Пробыли мы с Леней в редакции совсем недолго – всего несколько дней. Ровно столько, Сколько хватило СМЕРШу навести обо мне справки. Боюсь, что произошло это с подачи моего однокурсника Пети, у которого в редакции почему-то было «историческое» прозвище «Науходоносор». Он знал и о Лешином, и о моем аресте. Может быть, он случайно просто обмолвился... Так или иначе, меня пригласили в СМЕРШ и сообщили, что по причине моей биографии, осложненной арестами папы и мамы, а также собственным арестом и пребыванием в штрафной роте, мне не положено работать в редакции фронтовой газеты армии, собиравшейся продолжить наступление на земле противника, в Германии. И предложили с ближайшим транспортом вернуться в Москву. Леня Чернецкий тоже засобирался в обратный путь со мною вместе. В качестве «компенсации» за несостоявшуюся работу в редакции нам подарили по паре новеньких трофейных кирзовых сапог с какими-то особо прочными рифлеными подошвами и железными подковками (свою пару я благополучно продала вскоре на ближайшем к институту Палашевском рынке, где наши студенты загоняли то часть хлебной карточки, то ордера на ширпотреб, время от времени выдаваемые профкомом именно с этой тайной целью, как мне сейчас кажется, – поддержать вечно недоедающих студиозов...)
Из Вайноде-Бата на попутных машинах добрались до шоссе, оттуда так же на попутках до Шауляя, потом поездом до Вильнюса. Из Вильнюса до Минска – в теплушке, а уже из Минска до Москвы – поездом, составленным из дачных вагонов. Я так подробно описываю обратный путь не потому, что запомнила его, – я эти подробности нашла в совершенно неожиданном для себя месте – в своем следственном деле. А по-настоящему запомнилась мне ночная промерзшая теплушка – в ту ночь неожиданно грянул мороз. Минус пятнадцать было точно – в моем «шинельном», подбитом ветром пальтишке (действительно, с помощью подружки собственноручно перешитом мной из моей солдатской шинелки) и в утлых осенних то ли туфлях, то ли ботиночках, было мне сильно неуютно... В Москве эта морозная ночь в теплушке аукнулась потом длительной простудой со всякими осложнениями.
Запомнился и дачный вагон, в котором пришлось провести чуть ли не трое суток сидя – все время хотелось прилечь, но было негде, даже ноги не всегда удавалось вытянуть в проходе...
Так неудачно закончилась и третья моя попытка прорваться на войну...
Не знаю, какие силы «вели» меня по жизни – охраняли, не давая совсем сгинуть, или мешали реализовать все лучшее, что побуждало меня к тем или иным поступкам или решениям.
Сейчас, когда я пишу эти строки уже в возрасте «пиковой дамы» (до которого и не чаяла дожить, шутка ли – три четверти века!), склоняюсь к мысли, что это моя «такая планида». И еще – за долгую жизнь поняла и поверила – все в Божьей воле, мы сами и наши жизни. Значит, и все, что со мной приключалось, было волей Божьей!.. И судить о ней я не считаю себя вправе...
* * *
Я закончила Литературный институт осенью 45-го года. Госэкзамен по русской литературе у меня принимали поэт Николай Семенович Тихонов и милейший Василий Семенович Сидорин. Хотя когда-то при поступлении я так и не обратилась к нему за помощью, неловко было, – за годы учебы в институте я подружилась с ним и его женой Любовью Максимовной. Жили они здесь же, во дворе института, теснясь с двумя детьми в одной комнате. Именно у них в 40-м году я познакомилась с Женей Поляковым.
Особым прилежанием в учебе я не отличалась. И не столько училась (хотя хвостов у меня, сколько помню, не было), сколько жила институтом – интереснейшие творческие семинары, прекрасная библиотека, институтские вечера с остроумными капустниками, непременной участницей которых я была с первых же месяцев учебы...
Но, видимо, основы культуры и знаний, заложенные в семье мамой и в школе – прекрасной словесницей Александрой Ивановной Анисимовой, сказались: в билете на госэкзамене по литературе основной вопрос относился к роману «Война и мир», любимейшей с юности книге, многажды перечитанной, которую местами знала почти наизусть. Это мое любовное знание романа, естественно, сказалось и на моем ответе. Экзаменаторы довольно улыбались, а Николай Семенович, проставляя в зачетке «отлично», пошутил: «Что – "старик Державин нас заметил..."» Я в ответ не сумела сдержать улыбки – расплылась...
Оказалось, что он уже слышал обо мне, как о поэте, «подающем надежды», и, прощаясь, пригласил зайти, показать ему свои стихи, а главное – обещал показать рукопись Анны Андреевны Ахматовой, – он готовил ее для издательства. Конечно, я воспользовалась его приглашением и с каким-то неизъяснимым чувством касалась машинописных страничек (я уже знала «Поэму без героя» и была ею заворожена; тогда она ходила по рукам – в списках), бережно вынутых Тихоновым из папки...
А недавно мне рассказали, что «сигнал» этой книги все же вышел, и Анна Андреевна, не подозревая, что набор рассыплют, подарила этот единственный экземпляр ленинградской балерине Вечесловой.
Тихонов предложил мне принести свои стихи в журнал «Знамя», где он работал, что я и сделала. Кажется, они уже были прочитаны всей редколлегией, когда в августе 46-го вышло известное ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о Зощенко и Ахматовой. Книга ее, конечно, не увидела света, Тихонов из «Знамени» ушел, о моей публикации нечего было и думать – мои стихи (в основном любовная лирика) и без того в институте считались «упадочными»...
Их обсуждали на закрытом комсомольском собрании без меня. Я к тому времени не была уже комсомолкой – вернувшись с фронта из штрафной роты, я больше не вступала в комсомол. Стихи же мои – и те, что я уже привела выше – «Война дала нам безотцовых сыновей...», и новые, об одиночестве, были, действительно, откровенно-горькими:
Я закон души своей нарушила,
я сама перед собой грешна:
называла нелюбимых – милыми,
перепутывала имена.
Ни у одного я не увидела
капли настоящего тепла,
ни в одной из временных обителей
я себе приюта не нашла.
Я ждала Его, а Он не встретился.
Может, Он еще в большом пути?
Неуютным одиноким вечером
суждено Ему ко мне прийти.
Вот тогда пойму по-настоящему:
раздарила я, не сберегла
девичьего, женского, щемящего,
просто – человечьего – тепла...
Это стихотворение я тоже нигде никогда не публиковала, так как много лет не могла найти одного нужного слова. Но, мне кажется, что оно очень точно передает то состояние души, ту жажду любви, верности и семьи, которая всегда была у меня и приводила порой к горьким и даже трагическим последствиям в моей судьбе.
Это стихотворение, так же, как и о «безотцовых сыновьях», расходилось по институту в списках. Спустя много лет одна известная поэтесса, которой я тогда даже не знала, как многих с младших курсов, сказала мне – «Руфь, вы были уже поэт – с судьбой и характером, мы же были девочки...» Может быть, это так и было, ей со стороны виднее. Но дело было в том, что меня не только обсуждали за «упаднические» стихи, но не всегда давали даже талоны УДП (усиленного дополнительного питания, хотя я не помню, чем и как было «усилено» то, что мы получали по ним, – скорее всего просто удваивалась порция. Впрочем, и этого было немало). А уж о персональной стипендии и думать было нечего, хотя, как только они в институте появились (кажется в 44-м году?), Илья Львович Сельвинский немедленно выдвинул меня чуть ли не самой первой на первую же персональную стипендию, кажется, имени Салтыкова-Щедрина. И потом тоже не раз выдвигал, но меня ни разу не удостоили этой чести.
* * *
Летом 46-го я поступила на работу – в Сценарную студию М» при институте кинематографии СССР, было тогда и такое. Вскоре стала старшим редактором по связи с Союзом писателей – должна была искать талантливых людей и привлекать их к работе в кино, искать талантливые книги для экранизации. Училась редактировать сценарии и фильмы у замечательных опытных редакторов – Нины Васильевны Беляевой и Елены Абрамовны Магат.
К тому же времени относится и одно забавное совпадение – получив на работе общественную нагрузку, я оказалась агитатором все в том же родном Литинституте (он входил в наш избирательный участок) и снова стала часто бывать в институте, участвовать в капустниках... Так вся моя жизнь с весны 38-го и до весны 48-го оказалась связанной с Литинститутом – здесь было средоточие всей жизни, здесь встретились друзья, оставшиеся ими и по сей день. У меня тогда как бы продолжилось золотое время студенчества...
Но и работать было очень интересно, а главное – я, наконец, получила возможность хоть как-то помогать маме, так как у меня была уже регулярная и вполне приличная зарплата и очень хорошие карточки – «литер Б». Не очень часто, но я навещала ее в Александрове, посылала продукты. Но это было каплей в море – истощенная долгими годами жизни впроголодь, мама слабела, сдавало сердце, больное еще до ареста... В октябре 47-го я ее там же, в Александрове, похоронила.
В том же октябре 1947 года, чуть ли не в те дни, когда я на «сто первом километре» хоронила маму, в Москве собралось Первое Всесоюзное совещание молодых литераторов. Выше я уже говорила, что в Литинституте знали и любили мои стихи. За месяц до окончания института, в сентябре 45-го, меня вместе с Юлей Друниной даже пригласил на собеседование в Союз писателей тогдашний партийный «вождь» Союза Д. А. Поликарпов, тот самый, что был приставлен к писателям непосредственно самим Центральным Комитетом. Но, как ни странно, в моей судьбе он сыграл однажды положительную роль, хотя именно он громил на закрытом .комсомольском собрании мои «упаднические» стихи. Юля, когда я через много лет напомнила ей этот вызов к Поликарпову, меня, конечно, не узнала, может быть, и потому еще, что ее первую позвали в его кабинет.
Партийный босс Союза писателей был искренно озабочен судьбой литературной молодежи, расспрашивал, не нуждаюсь ли в чем, даже говорил хорошие и добрые слова в мой адрес. Отказавшись тогда от его помощи, я действительно была вынуждена обратиться к нему в конце года – пришла просить направление на работу: Литинститут своих выпускников никуда не определял и не распределял. Прирабатывая на жизнь литконсультациями в издательстве «Молодая гвардия» (ответы на рукописи начинающих авторов, так называемый «самотек») и в Совинформбюро, куда надо было писать двух-трехстраничные зарисовки, карточки я получала в домоуправлении и, тал как нигде не работала, – иждивенческие. А это было воистину полуголодное существование.
Могила Р.М. Тамариной на кладбище г. Томска
Работу тогда Поликарпов не предложил – шла очередная избирательная кампания, ему было некогда, а вот карточки «литер Б» приказал выдать. Выше я уже рассказала, что летом 46-го совершенно случайно поступила работать в Сценарную студию Министерства кинематографии, и что там меня, так же, как в Литинституте, заметили, даже дали самостоятельно вести сценарий (кстати, того самого С. Болдырева, который в Литинституте рассказывал об Алма-Ате).
Но вот о Совещании молодых литераторов меня не известила ни одна живая душа – смутно помнится, что я даже услышала о нем, только вернувшись с похорон мамы. Это было очень обидно – не попасть в число участников Совещания молодых, но я утешала себя тем, что оно совпало с днями маминых похорон, и потому мне все равно было не до него...
Много лет спустя, читая свое следственное дело, я поняла, что все время была «под колпаком» Госбезопасности, и не пустили меня на Первое совещание молодых литераторов как «антисоветскую» особу. Ведь через несколько месяцев после него, 28 марта 1948 года, меня арестовали. К счастью, мама не дожила ни до дня моего ареста, ни до дня, когда всех этих бедных женщин, «чеэсировок» в 48-м году погрузили в эшелон и вывезли в Сибирь и Казахстан...
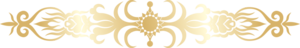
Документальный фильм о женском ГУЛАГе
"ГУЛАГ - фото (женский альбом)"