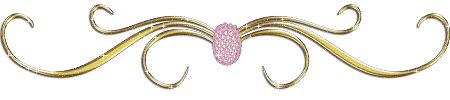Александр Кузьмич Иванов
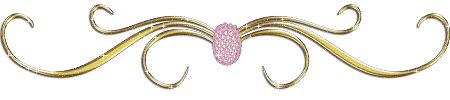
Прозаик Анатолий Маляров о творчестве Александра Иванова
* * *
Музыкальный момент
Лев Толстой утверждал, что первую половину дороги человек думает о том, что он оставил дома, а вторую – о том, что ждёт его впереди. Я же, умостившись на верхней полке купейного вагона дальнего следования, думаю о женщине. Поначалу абстрактно, постепенно все больше о той, что, облокотившись на свернутую постель у окна внизу, легко кокетничает с двумя спутниками моего возраста и из моей же туристической группы. Вставляет в общую беседу словечки легко, округло и задиристо.
Оба ее собеседника плетут невнятицу, угощают дамочку, которой едва ли тридцать и у которой симпатичные формы и модная прическа. Мужики держатся сверхуверенно. Мол, видали зверей почище львов, от них и то летели клочья, а сами тупо внедряются в свой интерес. Оба рослые, броской наружности и бывалые до чертиков. Еще не доедем до впервые обещанной заграницы, как один из них получит право предложить дамочке свою руку и уж под Мендельсона поведет желанную туда, где уют и интим. На то Бог и придумал всякие курорты, командировки, туристические вояжи, особенно за бугор.
Мне с ними не тягаться. Физиономия у меня круглая, последний раз отразилась в зеркале на дверях купе закрученной и красной, как у бражника. Да и совсем не пышная причёска красоты не прибавляет. Культуризмом я никогда не занимался, даже с зарядкой «на вы», а такой-сякой интеллект и дар мелодии на лбу не прописан. Чтоб до меня дойти, слабый пол должен съесть по дороге хотя бы полпуда соли и вообще этот пол должен быть по-настоящему слабым. Стояло бы в купе вшивенькое пианино, на худой конец, висела бы гитара, с бантом или без банта, о!..
Тоска, да и только. Клин клином вышибают. Я в мозгу перелистал начало своего донжуанского списка: куцый для гастролера к тридцати годам. Решил было смириться с ролью шавки в конце своры за жучкой. Однако нас ведёт Всевышний, а не ОВИР и загранвиза, не случайная ситуация. Рука нащупала в саквояже сопилку - коротенькое бревнышко с дырочками… Я имманентно приложил ее к губам, дунул, пошевелил пальцами - изнутри пролилось:
Сіла птаха, сіла птаха на тополю,
Cіло сонце понад вечір за поля…
Не сразу я уловил, что троица у окошка внизу перестала звенеть рюмками и болтать вздор. Увлекся бы сам и замер в очаровании первобытным инструментом, если бы не надо было дуть да перебирать пальцами. Ага, ловеласы и фурия, достало! Гордость моя нашла подпитку, этим сердце и успокоилось. Хорошо, что в природе, кроме нашей плоти и похоти, существует нечто духовное, пожалуй, покрепче бицепсов и гормонов.
Когда наше купе всем миром выходило в тамбур покурить, бальзаковская дамочка пристроилась своим округлым плечиком ко мне и эдак положительно спросила:
- Вы музыкант?
Гонор мой взыграл, захотелось возразить дамочке:
- Любитель, - ответил я, небрежно и в сторону пуская колечко дыма.
- Меня зовут Татьяна. Можно просто Таня.
- А меня Иван, в простонародье Ваня, - соврал я в том же духе мальчишеского противоречия.
Хорошо, что проводник появился в дверях и отвлек нас, иначе я и не нашелся бы, каким словом продлить интерес дамочки к моим талантам.
Звон сопилки и мелодия птахи продержали дамочку в обаянии еще день. Сужу по ее взглядам, брошенным на меня издали, как бы приручая меня. Мол, в какой-то степени мы знакомы, свои. Может, это попытка держаться земляками в чужом, капиталистическом краю, а может она, как и каждая женщина, привыкла ко многим поклонникам.
Поздним вечером стайку туристов кормили в пабе – Татьяна оказалась на стуле рядом. Я даже хотел позвать ее после ужина прогуляться, но вспомнил, что парнишка в штатском, назвавшийся Петей Петровым из стройконторы, однако цепко следивший за каждым из нас, предупредил:
- Во избежание провокаций держитесь по трое и больше.
Спрашивается, на кой хрен в адюльтере третий! Я в который раз решил завязать со всяческими попытками сблизиться с женщиной в условиях свободного мира. Однако в очередной раз нас кормили в приличном ресторане, и, - о, радость! – о спинку дивана там оказалась прислоненной… гитара! Я разыграл лирическую сценку. Вначале небрежно прошелся мимо инструмента, потом как бы случайно подхватил его, присел, только спиной к попутчикам, как бы забывая о них. Настроил струны, вспомнил лучшие из своих недавних строчек, запел, снова же вроде для себя:
…Послушай встречи голос вещий
И хоть минута коротка,
Пусть робкой птицей затрепещет
В моей руке твоя рука.
Доверься чувствам непритворным,
Мосты для бегства не готовь…
Пусть ручейком вольется горным
Твоя любовь в мою любовь...
И снова за спиной у меня прекратился звон посуды и говор путешественников.
Наутро в гостиной к завтраку собрались не все. Не было Татьяны. Петя Петров забеспокоился, чуть ли не вытолкал руководителя нашей группы из-за стола, иди, мол, выясни, что с человеком. Тот как ушел, так и вернулся ни с чем.
- Ей нездоровится, - и многозначительная пауза с понимающим взглядом на каждого из нас. Я подумал: хорошо быть женщиной - у нее есть недуги, которые не требуют ни объяснений, ни справок.
Коллеги смирились с положением дел, а я завертел всей массой свого серого вещества. Понятно, от меня требуется ответный ход. Я просто обязан преступить приличия и совковые нормы зарубежных вояжей.
Эврика! Два пролета крутых лестниц под нами. На повороте я скольжу, не жалея седалищ, падаю на острие ступени, но хватаюсь обеими руками не за поясницу или ягодицу, а за ступню.
- Ой, подвернул…
Мне пытались помочь подняться. Я отчаянно силился идти на экскурсию, и не мог. Попросил хоть одно плечо, чтобы опереться и доковылять к своему номеру.
Когда меня уложили в постель, туго забинтовали ногу и ушли в плановое путешествие по городу, я воспрянул духом. Разбинтовал ступню, принарядился в невиданный доселе спортивный костюм, купленный здесь же, за бугром, и перешел в коридор. Меня ждала тоже неожиданно выздоровевшая, как и я, Татьяна.
Дальнейшее не требует описаний. Со времен Адама и Евы, с того момента, как было откушено райское яблоко, технология отношений между мужчиной и женщиной изменились мало. Как и таинство любви.
А вот искусство я полюбил истово. Познаю музыку и совершенствую с полным сознанием, что все блага человека – от нее.
* * *

Штани
Літнім ранком 197... року я вийшов із дому у новеньких штанях ще небаченого у наших краях фасону - ковбойських джинсах. Чорні і лискучі, з китицями і металевими заклепками, вони щільно обтягували стегна і збігали донизу широченними „колоколами”. На сідницях були витаврувані два леви, які у такт ходьби розмахували лапами, наче у смертельному двобої.
Чимчикував я у редакцію газети на оглядини. Насамперед, до Миколи Солодченка, великого знавця різного роду дивацтв. (М.С. Солодченко, кум и пісенний побратим автора).
Миколу Сергійовича, який завжди носив коротенькі „дудочки”, заморські штани вразили до оторопіння. Він довго оглядав мене з усіх боків і зробив такий висновок:
- Цікавущі штани, ти кажеш, джинси називаються?– І з жалем додав, - Але на мене, мабуть, довгуваті будуть.
У мене миттєво виникла задумка веселої витівки, тому я солідно заперечив:
- Нічого не довгуваті, ходімо поміряєш.
Після довгих вмовлянь він таки натягнув у фотолабораторії мої джинси. Вони йому були таки добре задовгі, але я, наскільки міг серйозно, пояснив, що зараз мода така – щоб аж по землі волочилися.
Тоді я і викинув козирного туза:
- Миколо, побудь до перерви у моїх джинсах, а в обід я поставлю тобі пляшку коньяку.
Аргумент мій був дуже сильним, і під тиском редакційного оточення, відомих любителів дармової випивки, Солодченко здався.
...Коли він вперше пробіг по коридору і вскочив у цех друкарні у цих неймовірних джинсах і вишитій сорочці, дівчата підняли веселий ґвалт, а Микола Сергійович, наче нічого не сталося, бурчав:
- Що за люди, наче штанів не бачили.
Надалі Солодченко вже не виходив із кабінету, ховаючи ноги під письмовим столом. Але всі до нього забігали, начебто у справах, заглядали під стіл, а він хвицав ногами.
Раптом, у відсутності редактора, його викликали в райком. Він довго пояснював по телефону, що не може, що ледве ходить, бо хвора нога, але з обіду прискакає на одній. Але справа була, мабуть, дуже нагальна, бо вже через площу у редакцію біг інструктор райкому. Як у пастці, Солодченко бігав по кабінету, благав віддати його рідні штани, а під кінець не придумав нічого кращого, ніж підперти зсередини двері ногою.
Інструктор здивовано штовхався у двері, з кожним разом все вище повторюючи:
- Ну, що за жарти, Миколо Сергійовичу!
Коли вже дійшов до вереску, Микола відступив... Мабуть, Солодченко на все життя запам’ятав тираду оторопілого інструктора про антипартійні штани.
...Поступово напруга спадала, Микола Сергійович охоче виходив на перекур, ділився з хлопцями враженнями про „штани з-за бугра”, мовляв, скільки на них таких гарних необов’язкових речей. От наприклад, оцей повзунець на ширінці – і придумають же таке!
Через годину він вже сам заходив до дівчат з питанням, чи бачили вони диво-штани, невдоволено додаючи:
- Ну, то заходьте до мене та гарно роздивіться. Що за люди такі, нічого їх не цікавить?!
Я почав хвилюватись – моя витівка приймала непередбачений виверт.
Так і вийшло. Після чарки-другої у обід Солодченко навідріз відмовився віддати мені джинси:
- Тепер думай про вечерю, Сашко,- весело казав він, - побачимо по настрою.
А мій настрій геть упав: що, як доведеться йти додому у чужих штанях?
Олександр Іванов,
автор невдалого жарту.
* * *

Скрипка Беротти
Не в первый раз доносятся голоса с кафедры:
- Маэстро заведомо на стороне студентов. Жаловаться ему – себе дороже.
На досуге я задумался над природой такой моей сентиментальности, даже защемило под ложечкой: поди, старею, теряю поводья, слабеют шенкеля.
И тут вспомнилась целая история времен моей первой менторской зрелости, еще в районной музыкальной школе.
…Платон Макарович, дед Платон и его семилетний спутник – оба приземистые, в похожих, как бы с чужого плеча, сорочках и – рука в руке.
- Это мой внук, Степашка. Ему на роду написано жить при скрипке.
Этих хуторского вида гостей мы принимали вместе с новым учителем, Аркадием Борисовичем, давним моим однокашником, не преуспевшим скрипачом областной филармонии, как бы ссыльным в провинции.
Аркадий скрепя сердце прослушивал мальчишку. Однако за спиной стоял я, и он вынужден был признать: слух, ритм, музыкальная память – отменные.
В сторонке Борисович все же размышлял вслух:
- Пацан неусидчив. Такие редко выдерживают пытку уроков. Месяц-другой походят и – поминай, как звали.
Мое внимание раздваивалось: в то же время дед Платон своим сиплым баском подавал историю своего рода:
- Царствие небесное, батько мой от рождения незрячим был. Отдушиной и кормилицей его была скрипка. С бродячими лирниками ходил по святках да весельях, тешил селян. Приносил то мерку картошки, то клумак муки. Мамка у нас была пришлая, из города. Недокормила меня, ушла восвояси. Я ещё ходить не научился, а в бубон колотил впопад. Чую - вся музыкальная удаль нашей родни перешла в Степашку. В хате, в чулане да на горе, скрипка лежит с деда-прадеда. Смычок худой, да научится внучек играть – достанем и волос и канифоль. – Дед подошел ближе к нам: - Вы приходите погостить. Сядет солнышко, и приходите.
У меня всегда доминирует чувство над мыслью, не могу отделаться от обаяния живых, не стиснутых условностями людей.
В ряду мазанок, под толью, под камышом, хата деда Платона выделялась выгоревшей, но ловко уложенной черепицей. В огороде начинался древний погост с замшелыми каменными крестами и памятниками, где-то с запавшими могилками и поросшим дерезой рвом.
Светелка чопорная, на окнах застиранные занавески, на полу домотканые дорожки, чисто и убого. У стола четыре колченогих табурета, на столе ароматное, тонко нарезанное сало, квашенные огурцы, краюха хлеба – все…
Удивили вареники. «Постолы», ухмыльнулся старик. И правда, в добрую кисть руки каждый, в кастрюльку вошло всего четыре, аккурат по числу пирующих, если прибавить внука.
Дед занимал нас делами рода Степашкиного. Все так же громко, видимо, превозмогая свою начальную глухоту, вещал:
- Родители этого вертуна подались на север, за длинным рублем. Как бы на год, а выходит и два, и три.
Старик ножом-палашом рубил лук, потому не понять: слеза в глазу от воспоминаний или от сочных брызг.
- Степку им не отдам. Что ему в снегах ютиться, мерзлую картошку грызть? А тут и коза с молочком и курица с яйцом. А еще – на своей скрипке научится!
Дед бросил нож на половине луковицы, подался за дверь, в чулан или «на гору», то есть, на чердак. Внес кипу тряпья, развернул и поднял на ладонях видавший виды инструмент. Было очевидно: скрипка жила бурной бродячей жизнью, но останки лака свидетельствовали, что знала она и лучшие времена. На нижней деке – тонко выжженное клеймо мастера – BEROTTI.
Да простят мне мои нынешние нахватанные аспиранты, но тогда я знал Страдивари, Амати, Гварнери, но имя некоего Беротти на заре моей педагогической деятельности мне не встречалось.
Аркадий же стянул губы в струнку, свел глаза к переносице и с небрежным видом принялся рассматривать инструмент. Начал с головки грифа, которая и мне показалась аляповатой и несовершенной, потом перевернул, стукнул пальцем о донышко. Тронул единственную слабую струну мезинцем. Я баянист, гитарист, ну, еще вокалом владею, в скрипках же полагаюсь на специалистов.
Аркадий почему-то кривился и говорил:
- Топорная работа… Если скрипичный мастер не сумел или поленился вырезать причудливые вензеля, это свидетельствует о невысоком профессионализме. – И, как бы отстраняя изящную скрипку, категорически добавил: - Музыкальной ценности этот инструмент не имеет. Интересен только как артефакт старины в какой-то бутафорской коллекции. Звук проверять не станем, смычка нет, струна всего одна...
Этот невезучий артист говорил так доброжелательно и убедительно, что даже я не сомневался в квалифицированной оценке нашей находки.
- На этой скрипке, - продолжал специалист, - внук учиться не сможет. Ему нужна скрипка-половинка.
- Ну что ты скажешь! – застонал дед Платон. – Где я такую возьму, половинку!? Дело в деньгах - неподъемное.
Я уже собрался замять печаль, предложил поднять стопку в память бродячего музыканта, отца Платона. Но вдруг оживший Аркадий говорил:
- Да не печальтесь, Платон Макарович, я помогу вам. Есть у меня приятель, а у него хранится подходящая скрипка. Я подарю ее вашему внучку в честь нашей дружбы. – Красиво и снова убедительно сказано.
Старик Платон бочком ходил вокруг благодетеля, видимо, прятал мокрые глаза, и говорил, говорил то, что знал и что было ему близким: о слепом отце, одаренном музыканте со своей, народной школой, которому поклонялись заезжие богачи, одаривали одежонкой, даже вот этот инструмент кто-то подарил на гулянии. Потом о мечте увидеть внука перед большим скоплением слушателей, где-то на свадьбе или впрямь уж на ярмарке. До городской сцены, тем более до кастингов-конкурсов его ум не допрыгивал. И вдруг старик взял отцовскую старинную скрипку, теплым жестом завернул ее в то же тряпье, из которого она выпала намедни, и протянул моему коллеге.
- Прими, Аркадий Борисович, как хочешь, хочь как подарок, хочь как взамен обещанной скрипки-половинки.
Аркадий отнекивался вяло, а когда зажал инструмент подмышкой, то сразу стал прощаться - дела, мол.
Чтобы размыть неловкую ситуацию, уже у ворот, я отвлеченно спросил:
- А что, Платон Макарович, не смущает вас близкое соседство погоста да надгробий?
И услышал исконную мудрость:
- Мертвые уже ничего плохого не сделают. Ты, сынок, остерегайся живых. Это они могут и обмануть, и предать и ударить в спину.
Боже, вот где с чистым простодушием соседствует такая глубинная мысль. Старик не знал, что он вскрыл всю суть текущей коллизии.
В музыкальной школе Степашка изменился в корне. Получив скрипку-половинку, он прикипел к ней душой, занимался истово, повторял уроки с упорством и наслаждением. Что-то сильное передалось ему от прадеда-деда и развилось в его время. Я привязался к парнишке, как к родному. Даже в город, на высокую должность не хотелось переезжать. Но – творческая карьера!..
Аркадий же Борисович намного раньше меня покинул наш райцентр, снова засветился в областном центре, а со временем и в столице.
Три года спустя, бродя по Киеву, я наткнулся на афишу с его красочной физиономией и со знакомым, ловко приспособленным к рекламному имиджу именем. Я отправился на его концерт.
В белоснежной манишке и черном фраке Аркадий солировал виртуозно, я даже удивился, как это он не прижился в столицах смолоду. Самое же выразительное и красивое было – звучание его музыки. Я поверил, что хороший музыкант играет на скрипке гения. Бархатный тембр на низких струнах, яркие тона в среднем регистре, звонкие, поднебесные высокие ноты.
Совершенство инструмента и ликование исполнителя.
После концерта я зашел за кулисы к давнему приятелю. Поздравил. Присмотрелся к скрипке. Аркадий был откровенным до наглости. Не только сознался, что скрипка деда Платона – золотой клад, но и в подробностях докладывал, как он собирал материалы по биографии этого сказочного инструмента. Корпус инструмента, то есть, то, что рождает и возносит звук, создал известный в свое время мастер Беротти. Дальнейшие сведения коллеги: мол, не законченной осталась только головка грифа. Ее то и приладил наскоро ученик Беротти, видимо, не слишком одаренный, - все это уже меня не занимало. Я думал о нравах моих современников…
А еще во мне нарождалась та истинная любовь к малым и взрослым моим ученикам, которым не даны инструменты великих мастеров, но дан истинный народный талант. И не раскладывая события и людей по полочкам, не выбирая, – свой и чужой, родовитый или слепец, - я понял, что с той минуты каждый ученик – мое дитя. И уж защиту во мне найдет каждый из них в любой житейской коллизии. Так живу, за то и получаю упреки и непонимание, мол, жаловаться учителю на ученика, кому - маэстро? Себе хуже! Пускай! На то мы учителя, чтобы извлечь стоящее дитя из бедности и бесправия и поднять в люди!
Ношу с собой затаенную боль: по родовому праву на скрипке прадеда должен бы играть Степашка. Увы, жизнь пока что – всего лишь наша жизнь, а люди… нам их растить.
* * *

В глушь, в Саратов…
Этот конкурс я проиграл. Понятно, в Москве свой круг, своя мафия – два первых места остаются в столице. Но третье, то самое, что предрекалось мне, уедет в грибоедовскую глушь, в Саратов.
В Большом зале чествуют победителей, звучит симфония «Петр Великий». Автор ее – некий Ваня Кудряшов, сидит в почетном девятом ряду и похож на ряженого. Смокинг явно с чужого плеча, бабочка подпрыгивает к кадыку при каждом его сухом глотке, по волосам проходит дрожащая волна – гончая в стойке.
А ведь молодой провинциал ходил за мной, как за наставником, едва не первым пророчил победу мне. Я жил с ним в одном гостиничном номере и не раз удивлялся его открытости, его виноватой улыбке и словам:
- Я до сих пор не верю, что попал на столь престижный конкурс.
В дни репетиций я дважды снисходил к «человеку из глубинки» и приглашал вместе пообедать. Признаться, мне нужна была отдушина. Взвинченная душа требовала отрады. Я звал за компанию виолончелистку Свету Зорькину, а чтобы это не выглядело дерзко, «так сразу», третьим избрал заурядного Ваню.
Не чувствуя в нем конкурента, я нахваливал симфоническую поэму провинциала, а Светлана оказалась не менее тактична, чем я.
- Да, да, - подхватывала она звонко. – Во втором и четвертом эпизоде ведет виолончель. Я с удовольствием репетирую…
Она за столом даже не ела, все уточняла истоки музыки Кудряшова. А этот молчун, забывался и говорил, говорил с нею, едва не наступая женщине на язык.
- Вы могли бы сделать произведение для виолончели-соло, - заключила она. – Для меня.
После вечерней репетиции, я не собрал троицу вместе. Иван и Светлана до того заговорились, что ушли вдвоем и раньше. Выяснилось, брели они в потоке москвичей, как по матушке Волге и общим ухом слышали мелодии дальних берегов.
Мою покладистую натуру буквально подкосила сценка за столом претендентов. Ну, ладно, жюри включило «Петра Великого» в финал! Мало ли какая теперь политика по отношению к периферии. Мол, и там пусть себе живут и даже будут замечены свыше симфонисты из народа. Но ведь сам Вениамин Гордеевич, гордость страны и международный гастролер, аплодировал Ванечке своей дирижерской палочкой о левую ладонь, а потом подошел к «крестьянскому сыну» и положил свою волшебную руку ему на плечо. Да еще во всеуслышание пророкотал:
- Репертуарный портфель моего оркестра всегда открыт для вас.
Ничего себе прибился парень с околотка в центр!
Трезвые размышления меня всегда примиряли с жизнью. Ну, в прошлый конкурс - я засветился, в нынешний – Ванечка. Бывают взлеты и падения. Вернется молодой мужичок в свою глушь и кинется творить эдакое вершинное. Один, два раза не допрыгнет до замысла и – сядет на свой приволжский стульчик удить рыбку и вспоминать «десять дней в Москве». А пока что я у него отниму аппетитную виолончелистку.
Нашел я пару в малом репетиционном зале. Трудно представить: еще не отгремел финал, все души тянутся к звучанию симфоний со сцены и к решениям жюри, а эти двое затворников подперли дверь креслом: он устроился у рояля, а она поставила между дивных ножек свою громоздкую виолончель и – что-то там набирают по звуку. Впрочем, я послушал в щелку, и не смог отказать Кудряшову в чувстве мелодии, в обостренной композиторской интуиции, да больше – умении ловить вдохновение от самой осязаемой, очевидной нашей житухи. Теперь вот – от Светы Зорькиной. И получается. Добро бы только теперь и только на нотной бумаге…
Я почувствовал прилив всеобъемлющей ревности. К жажде работы и к близости, пускай всего лишь профессиональной, к Зорькиной. И тут приходится признать: упущена еще одна пассия. Из-за двери я не решился им помешать.
На следующий вечер Ваня ходил под окнами гостиницы один. Понятно, москвичке утомил уши вдохновенный волгарь, навязли в зубах его ноты. А он, гляди, распалился, возмечтал себя перекочевавшим на крыльях своих творений в столицу и приголубившим музыкантшу из симфонического оркестра. Жалко мне стало Ваню с глубинки. Я спустился и позвал его поужинать вместе. Он шел слегка покачиваясь, как в тумане, как пришибленный.
- Ты что, коллега, радоваться надо. - Я имел в виду успех его симфонии.
- А я и радуюсь.
- Просвети, чем? - Я вдруг подумал о еще большем успехе соперника.
- Да вот один, ожидаю.
- Чего еще можно ожидать? Диплом в кармане, неделю потерся о шикарную москвичку. Кстати, где она теперь?
- Репетирует мой экспромт. Отпросилась.
- Отпросилась?!
- У меня… Вы представляете? И с таким уважением, словно я ее отец или старший брат. Или, простите за смелость – маэстро…
Я не лишен культурной ауры, но в утробе – еси циник. Потому вдруг поразился столь щепетильным отношениям двух малознакомых людей. Пусть даже творческих, так сказать, свихнутых. Впрочем, ладно, и это пройдет, как заикнулся, кажется, Соломон.
Дальше пошла хроника бытия. Провожали с ярмарки музыки провинциальный ее привоз. Одесситы шалили, белорусы с покорностью судьбе забирали в зубы удила. Азиаты уверяли, что лучше устраивать байрамы у них, в бывших Хорезмах, Бухарах да Ходжентах. Я не дошел до праздника разлуки, встал за кустарником и через перрон смотрел на… как усаживались в вагон двое моих новых знакомых: Иван и Светлана. Хотел было позавидовать, но вдруг рассмеялся. В Саратове она погостит, встанет в самом центре города, глянет вниз к реке, потом вверх, на холмы. Попробует «окать» и хлебать щи лаптем. Остановится, оглянется – и начнет тайно собирать денежки на обратный билет.
Следующая запись на моем черепном диктофоне. Полгода спустя, когда я закружился своим преподаванием, укреплением карьерных позиций, скромными амурами… вдруг слышу оригинальный и сильно запоминающийся музыкальный фрагмент по радио. Все же я сам пишу и исполняю – присел, дослушал. Хорошо. А в конце милая диктор напомнила: «Саратовские напевы» Ивана Кудряшова. Трудится, значит, периферия, если столица поминает!
И яркий визуальный ряд из моей биографии. Международный конкурс виолончелистов. Я уже в жюри – растем, бродяги! В фойе встречаю повзрослевшего, даже с легким инеем у висков Ивана Кудряшова. Весь приглажен, присмотрен, с головой высокой и веселой.
- Ваня, ты-то с чем здесь!?
- Только как сопровождающее лицо.
К нам приближалась русая, в обширном, излишне свободном платье Светлана Зорькина.
Иван с чертиком в глазу смеется:
- Вот, ждем наследника, а упустить первую премию не хочется. Потому сопровождаем.
…Живут люди и в Саратове.
* * *

Елисаветские битлы
Первое официальное название Кировограда -
«Елисаветград» было утверждено в 1784 г.
(Википедия)
Так было в шестидесятых годах уже прошлого века, в «хрущёвскую оттепель». Спрос на зрелища возрастал. С концертами по городам и весям выезжали не только немногочисленные труппы областной филармонии, но и лучшие концертные бригады Домов культуры, которым было дозволено проводить платные (а чаще бесплатные) выступления перед зрителями. Но, как ведётся, милостивое разрешение дополнялось существенным запретом. Мол, зарабатывать то можно, но всё - в казну, платить артистам за работу нельзя.
Наш директор в артистическом бомонде слыл ещё тем пронырой и носил уникальную своим потаённым смыслом фамилию - Елисаветский (на слух - Еле-советский, а мы говорили по-украински - Ледве-радянський). По его повадкам и манере разговаривать, можно было без труда угадать, какая национальность указана в пятом пункте его паспорта. И к нам он обращался как старый мудрый еврей к своим непутёвым детям:
- Как говорила моя мама, на каждую хитрую гайку всегда найдётся болт с левой резьбой. Буду вам платить щедрые командировочные. Это не возбороняется. Держитесь за меня!
За эти «щедрые командировочные» всё-таки можно было без излишеств пообедать в захудалом ресторане. Что ж, подходит. Тем более что музыкантам платили двойную ставку, и заслуженно.
Позволю себе небольшое отступление. Когда сейчас пишут на афишах - «концерт - живой звук», я улыбаюсь - это от лукавого. Даже если певец и рискнёт что-то спеть своим «живым» голосом, то всё остальное (бек-вокал, оркестр) всё равно фонограмма, неживая музыка. Знаменитый Лев Лещенко как-то сетовал:
- Вы понимаете, мы в студиях добиваемся идеального звучания, а потом на концерте то микрофон не так сработал, то соло гитары «не прошло», то ещё какие-то накладки. А зритель недоволен, халтура, мол. Вот и приходиться имитировать пение под уже готовую запись.
Лев Валерианович, который, кстати, сам не злоупотребляет фонограммами, прав в одном: в режиме «сцена - зритель» очень сложно «организовать и выдать» качественный «музыкальный продукт». А кому нужны лишние хлопоты, когда вот он, весь заранее записанный репертуар - на одном диске! Тем более что заработанный гонорар всегда лучше делится на меньшее количество ртов.
А в те времена наш небольшой ансамбль пребывал на сцене весь концерт - от музыкального вступления до последнего аккорда. Чередом шли песни, танцы, музыкальные монологи, цирковые номера, а нам надлежало всё это аккомпанировать. Обратите внимание, тогда концерт обязательно был многожанровым - исполнение исключительно песен, как сейчас на фестивалях, или только юмористических номеров, как в «Кривом зеркале», просто не воспринялось бы зрителями.
Утвердить «в верхах» программу концерта было чрезвычайно сложным делом. Компетентные (по должности) люди нещадно вычёркивали из программы совершенно безобидные для советского строя песни Сальваторе Адамо и Тото Кутуньо, не говоря уже о композициях «Битлз» или «Роллинг стоунз». Зато обязательно - фанфарные песни о партии, Ленине.
Я разыскал одну прелюбопытную песню такого плана, которую написали поэт Валентин Бычко и прославленный композитор Григорий Верёвка. Когда ведущий торжественно и с привыванием объявил: - Слова Бычка, музыка Верёвки - «Песня о Ленине», - то даже члены комиссии заёрзали на стульях, а потом деликатно посоветовали подобрать другую песню. Эта, мол, неважно звучит. Да уж, с таким сочетанием фамилий…
Однажды, наш ансамбль обязали, а мягче - поручили, доверили, отыграть свадьбу дочери высокого партийного начальника, который как раз ведал вопросами идеологии. Отутюженные и напомаженные, мы поначалу играли строго по программе. Но, когда народ разгорячился, нужно было играть совсем другую музыку, а мы побаивались «репрессий». Вдруг, как-то незаметно, бочком, к нам приблизился этот самый партийный босс, и спокойно, даже извинительно, произнёс:
- Ну, что вы, ребята, в самом деле! Вы лучше за меня знаете, что нужно играть на свадьбе. Не робейте, действуйте!
Тут уж мы дали жару. Зазвучал исконно свадебный репертуар: неизменные «Семь сорок» и «Одесса - жемчужина у моря», не рекомендованные для нашего слуха джазовые мелодии и песни зарубежной эстрады. Короче, всё то, что официально считалось нежелательным или нелегальным. Потом пошли заказы, и мы без стеснения принимали бонусы от партийных чинов. Тогда я ещё раз убедился, как далеки идеологические догмы от реальной жизни.
Но как бы там ни было, гастролировали мы весьма успешно, и работать с нами почитали за честь лучшие артисты Кировограда. Особым успехом пользовались выступления весьма неплохого иллюзиониста, который по моде тех лет именовал себя псевдонимом - Ива Асса. (А мы - за глаза - Пиво Мясо).
Подыгрывать ему было весьма не просто. Он требовал к каждому фокусу отдельную музыку, соответствующую динамике номера, и был чрезвычайно придирчив. Например, когда он резкими рывками вытягивал из своего чёрного цилиндра нескончаемую разноцветную ленту, нам надлежало играть «Танец с саблями» Арама Хачатуряна. Как-то мы зазевались с переходом на эту музыку, и Ива Асса, не прекращая своих манипуляций, бросил в нашу сторону недовольную реплику: «Сабли, сабли!» А за кулисами подумали, что он забыл взять на сцену нужные для выступления сабли, и с горячки перерыли весь его огромный чемодан с реквизитом, хотя Ива Асса, истово храня тайну фокусов, никогда не позволял прикасаться к его вещам. А тут, полный разгром!
Но на этом несчастливые происшествия не оставили нашего фокусника. После концерта он вызвался проводить домой нашу новенькую певичку. В одной руке чемодан, вторая - на талии. Так они и скрылись в глупой ночи. Идти нужно было немало - на окраину города, по кривым неосвещённым переулкам.
У её дома молодые люди укрылись в уютном дворике, где Ива Асса не без основания рассчитывал на любовную компенсацию за свой рыцарский поступок. Пока суд да дело, его бесценному чемодану, опрометчиво оставленному у калитки, «приделали ноги». Украли, то-есть. Представим, с каким обалдением вор рассматривал свою добычу: какие-то непонятные коробочки с двойными стенками, шарики с потайными дырочками, складывающиеся кольца, гнущиеся ножи, верёвочки и ленты - абсолютный хлам для несведущего. Из полезного - разве что ножницы да сам чемодан. Но для Ива Асса потеря реквизита стала, конечно же, настоящей трагедией, и мы ему искренне сочувствовали.
С этого случая нас буквально стали преследовать неудачи и неприятности. Сначала забастовал «рабочий класс». Наш электрик, подключая аппаратуру к сети в полутёмном закулисье какого-то захолустного клуба, получил удар электрическим током и наотрез отказался в дальнейшем иметь дело с вечно разбитыми розетками и оборванными проводами. Его поддержал водитель автоклуба (обыкновенный «газон» с будкой) дядя Петя, которому давно уже осточертели эти ночные выезды.
У него был ещё один повод невзлюбить всё и вся. На своей неповоротливой колымаге он никогда не ездил более сорока километров в час. Поэтому, мы подсаживали к нему в кабину симпатичную артистку с надеждой, что дядя Петя, вспомнив молодость, будет ехать хоть немножко быстрее. Однажды, он, вдохновлённый нашей очаровательной гимнасткой Наташенькой, решился на «скоростной рекорд» и мы действительно разогнались километров до шестидесяти. Но тут (надо ж такому случиться именно в этот момент!) автоклуб остановила милиция, и дядя Петя получил дырку в талон, первую, как он, чуть не плача, говорил, в его послевоенном безукоризненном водительском стаже. После этого он и вовсе стал ездить со скоростью близкой к черепашьей, мы вечно опаздывали, к выходу на сцену готовились наспех и нервно, конфликты возникали из ничего и разрастались неудержимо и буйно.
А тут, как на зло, заболел наш контрабасист Павлик. С жесточайшей
ангиной его госпитализировали в инфекционный изолятор. На подмену мы пригласили другого музыканта, который перед концертом нервировал нас просьбами помочь настроить его контрабас, а потом всё равно играл чрезвычайно фальшиво. Павлик же, будучи профессиональным виолончелистом, умел и без тщательной настройки находить на огромном чёрном грифе контрабаса интонационно точные ноты.
Выход был один - на концерты Павлика «похищать». План казался нам гениально простым: вечером к дальнему забору изолятора подъезжает автоклуб. Павлик украдкой уезжает, а ночью так же незаметно возвращается. Но мы не учли того, что Павлик уже успел себя «зарекомендовать». Неугомонность его натуры и больничный режим оказались несовместимыми. Он, как потом напишут в нелицеприятном отзыве к нему на работу, был «зачинителем всех бед». Организовывал рейды в город за пивом и сигаретами, лазил через высоченный забор в соседний «дурдом», где вместе с психами смотрел по телевизору обожаемый им футбол и пр. Поэтому Павлик, единственный из всех больных, был «обмундирован» в белые штаны, типа кальсоны, чтобы медперсоналу было легче следить за его перемещениями в толпе «пижамных» больных. Короче, отъезжали мы от изолятора с Павликом, но под крики санитарок: - Больной, вы куда?
А теперь продолжение. Возвращения Павлика ждали. Больные с сочувствием, медперсонал - со злорадством. Когда глубокой ночью Павлик через окно проник в свою палату, в коридоре уже слышались торопливые шаги, зажёгся свет, и молоденькая медсестра бойко скомандовала: - Больной, немедленно вставайте, вас вызывает дежурных врач!
Но Павлик, сладко посапывая, крепко «спал». Сестричка решительно сдёрнула одеяло и обомлела. Перед нею лежал обнажённый Аполлон, мужские достоинства которого не были прикрыты даже фиговым листком. Девушке, воспитанной в стране, где секса не было в принципе, стало плохо. Первым к ней на помощь бросился сам Павлик, не успев, конечно, натянуть трусы. А подоспевший врач, естественно, оценил эту мизансцену, мягко говоря, неправильно.
На следующий день Павлика, не долечив, из больницы со скандалом выписали, а вдогонку послали в музыкальную школу, где он работал, письмо, в котором утверждали, что такой аморальный тип не имеет права обучать детей игре на виолончели. Это стало для нас последней каплей.
Первым поднял вопрос о прекращении нашей гастрольной деятельности наш аккордеонист Лёва. По профессии он был инженером по строительству дорог, и, намотавшись за день по своему участку между бульдозерами, катками и асфальтоукладчиками, прибегал всегда взмыленный, весь пропахший смолой и бензином, плюхался в кресло директора, протягивал ноги и минут на десять закрывал глаза. Возможно, в эти минуты происходила трансформация матюкливого (а как иначе?) прораба в блестящего аккордеониста, каким его увидят зрители на сцене. И, наверное, позавидуют его яркой жизни.
Наш мудрый Ледве-радянський, выслушав нас, вопреки моим ожиданиям, не стал возражать и уговаривать. Уж он-то знал, что мы, «пленённые музыкой», уже никогда не сможем отказаться от сцены, зрителей и аплодисментов. Нужно только немного времени, чтобы переварить неприятности, восстановить силы и снова подхватить творческий кураж.
Где-то через месяц мы опять стали стихийно собираться на репетиции, с юмором вспоминали недавние маленькие трагедии и, обсуждая творческие планы, засиживались далеко за полночь. Происходила, как сейчас говорят, перезагрузка. Деятельность в формате гастрольной труппы, когда творческие возможности определяются количеством посадочных мест в автоклубе, нас уже не устраивала. Мы решили создавать солидный джаз-оркестр, а на базе его - массовое театрализованное представление. На реализацию этого проекта ушёл почти год.
И вот премьера. На сцене рассаживаются музыканты в чёрных фраках, за кулисами разминаются танцовщицы с умопомрачительно красивыми ножками, гримируются до неузнаваемости артисты пантомимы, а за занавесом бурлит переполненный зал. В этой возвышенной ауре и щемящее волнение, и трепетное вдохновение, и чувства на пределе, и нервная дрожь по всему телу.
И в блеске сценического действа никто не догадается, что этот импозантный аккордеонист, улыбающийся в лучах софитов, ещё два часа назад дышал дымком свежего асфальта на отстроенной по его проекту дороге. Что контрабасисту Павлику, неунывающей душе оркестра, в его родной музыкальной школе нанесли удар под дых - таки отобрали его учеников и перевели к другому преподавателю. Что иллюзионист Ива Асса получил ультиматум от жены: «или я - или сцена». Что девочки из танцевальной группы только что отработали смену на швейной фабрике, а мы, стайка студентов из музыкального училища, последний раз обедали вчера.
А потом, когда утихнут аплодисменты и опустеет зал, мы здесь же на сцене сдвинем столы, достанем из футляров труб и саксофонов «у кого что есть», разольём в разнокалиберную тару загодя припасённое винцо. И Ледве-радянський, как самый мудрый из нас, совсем без пафоса скажет тост о том, что в жизни каждый несёт свой крест на свою Голгофу. С каждым шагом приближаясь к звёздам.
…Вновь под музыку снятся ночами
Вожаку журавлиного клина
Дирижёрские взмахи крылами
Над клавиром бессмертного гимна.
…Вновь стремимся мы жить на пределе
У огня обострённого чувства.
Посчастливилось нам – мы летели
В освежающем ветре искусства!