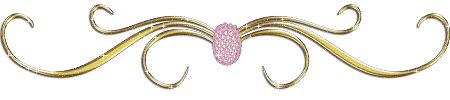Анатолий Андреевич Маляров
Кормилица
Мама перестала ладить с отцом. Она уговаривала его обедать дома, он позволял себе только завтраки и ужины: кружка чаю с овощным бутербродом.
- Ты совсем отощаешь. – Это мама.
- Устроюсь на работу, поправлюсь.
Было еще что-то в отношениях родителей, интимное и обидное, но двадцатилетняя Флора в ту сторону не думала: родителям по пятьдесят, живут впроголодь и вряд ли даже ее любвеобильной матери придут в голову молодые подвижки.
Еще Флору мучило ее положение в семье. Третий год после школы она не могла устроиться даже на мелкие гроши. Черной работы она не терпела: кукольное личико и осанка танцовщицы не позволяли ей унизиться до метлы или до кассы в универсаме, где ее сверстницы в течение дня протаскивали с ленты к электронике одной левой (или правой) по пяти тонн. Фирмачи на кастингах беспардонно намекали на личное сотрудничество. Один прямо вывез: в оплату труда входит сугубое внимание к шефу. Был тайный воздыхатель Никита – давно и молча уехал, говорят, искать кусок хлеба на войне.
Что делать? Что делать?!
Родители угрюмо наблюдали за дочерью. Отец сжимал челюсти и отворачивался, когда она вдруг встречала его горестный взгляд, мать, училка, с натужным безразличием цитировала:
- Бывали хуже времена, но не было подлей. – И, как бы отшутясь, поглаживала густые, волнами, с переливом волосы Флоры, говорила:
- Обещают лучшее, не бери в голову, доця.
Доця стала приносить в дом учебники английского языка, дома было много немецких книг. Изучала, повторяла. Отец насторожился:
- В остарбайтеры навострилась?
Флора, несвойственно для себя, хмурилась и ворчала:
- Забыт богом мой город, голландского словаря не найдешь. Говорят, нидерландский похож на немецкий и на фламандский. Немецкий зубрила в школе, а про фламандский слыхала только от Тиля Уленшпигеля.
Зубрилой Флора не была, но тут как нанялась: проснешься утром – читает словари, укладываешься вечером – шепчет чужие слова, уткнувшись в угол.
Два месяца спустя дочка нанялась в дворники. С рассвета гоняла бродячих собак и приблудных котов, подметала двор, драила подъезды. После обеда бегала в конторы, название которых тщательно скрывала.
И вот объявила родителям:
- Мы с Алей получили паспорта и визы. Едем в Голландию поработать.
Алю в доме не любили: фривольная девчонка, после школы успела побывать замужем. Ушла, товарки спросили: что, надоело? Ответила: я же не думала, что это навсегда.
- Ты спутницу скромнее не могла найти? – Снова мама.
- Там только с такой всплывешь.
И таки уехала.
… Полтора месяца волнений. Не только отец, но и мать забыла про обеды. Всего четыре звонка по телефону. Бодренькие, в коротких словах, телеграфно и все хихоньки и обещания:
- Работаю. Скоро навещу, не с пустыми руками.
Привезла ровно тысячу большими, не нашими купюрами – евро.
Прехорошенькая, говорливая, хвасталась успехами в языке, сдержанно поведала о шоу-банде, в которой танцует, и объяснила, что условия прекрасные: кончатся деньги – приезжай, приезжай, работа всегда найдется.
Мать есть мать, она заметила, что дочка, как только останется одна и даже в разговоре, когда думает, что на нее не смотрят, брезгливо кривится и подавляет прерывистые вздохи. А еще – часто полощет рот, как после привозной, подпорченной пищи. Так и хотелось спросить: не лягушками ли кормит вас фламандец?
Осеклась, не спросила. А спросила бы, то дочь сострила бы ядовито, с нажитым амикошонством: по три и четыре блюда на день.
Деньги кончились в три недели: долги растрясли и с едой разбаловались. Дочь снова засобиралась «чумаковать», как шутил отец. Он же шептал матери вечером:
- Странно устроилась. Хочу пляшу, хочу нет. А здорово, что мы ее с детства к танцам приучили, кусочек хлеба. – И натужная, неверная гордость прокрадывалась в его приглушенном голосе.
Вдруг появился Ник. Ничего солдатского, в том же коротком блузоне и в тех же шкарах, что гулял на выпускном вечере, только чуть примороженный и кажется выше себя ростом – все-таки два года где-то и без привета - без ответа. Флора ринулась было бежать, но так неуклюже, что запнулась и застала себя прижатой к парню, с руками не его плечах и щекой на шее. Пожаловаться, выплеснуться хотела, что ли. Спохватилась, отринула, вцепилась взглядом в два шрама над бровями, захлебнулась:
- Ранен?
- Уже в плену. Кистенем… своими.
Вспомнила его упрек на теперь уже давнем-давнем выпускном вечере, сердитый и складный:
- Хороша ты очень,
глазками волнуешь..
Только, между прочим,
не того целуешь.
Ник всегда смотрел в корень. Такому не соврешь. Вечером нашла не просто темную ночь, но еще и густую-густую тень под липами. Поначалу вырвалось:
- Ты как?
- Ищу работу.
- Поди, льготы, устроишься…
- Я без льгот. Кончились диски, пошел прямо, получилось… перешел туда.. полтора года спустя - обратно…
Потом Флора выпалила свое:
-- Наши дорожки и не сходились, но уже разошлись. Я в Голландии, работа неблаговидная…
- Поясни. Я под грохот стал тупеть.
- Легкая работа. В витрине - восковая фигура, статистка… потом па-де-де и падебаск в будуаре - солистка…
Она закрыла глаза, искала, искала слова. Когда открыла, Ника уже не было. Надо и ей бежать свет за очи. Какое ни есть запустение дома, а откуда ни явись, привозишь грязь. Она отмахнулась. Сама не поняла от чего: от мыслей об утраченном или от поездки. Назавтра уехала. Надолго. На два месяца. Привезла родителям достаток на всю зиму. И пряталась от соседей, паче от сверстников-одноклассников.
Ник ее подстерег. Пришел приодетый, забыв все, что он знал о Флоре и, наверное, многое о себе. Согласилась выйти с ним только глубокой ночью и на окраину. Уверенность его угасала. Он пробовал начать издали, но даже его околичности вышколенная догадка Флоры сразу расшифровывала.
- Я работаю. Пока охранником в универсаме. Три с половиной тысячи.
- И ты собираешься содержать семью на три с половиной тысячи? – Девушка сыграла в открытую.
Понятная пауза. Ходили внутри густой тени, как злоумышленники. Совсем ночь. У парня новый прилив отваги:
- Пойдем ко мне. Ты уже не… школьница.
Убоялась ввести его в ряд многих, умело рассмеялась:
- Твоей месячной зарплаты не хватит.
- Как ты взлетела!
Пауза до изнеможения. Он постоял, ушибленный, и вдруг как бы расплылся в темноте, понуро и молча, даже не шаркал ступнями, исчез.
Полгода на людях гордились и отец и мать: дочь прочно устроилась за границей, присылает достаточно денег. Сойдясь к постели, говорили на отвлеченные темы. Нескладно и почему-то злясь друг на друга.
- Погода…
- Погоду мы уже обсудили.
- С тобой ничего нельзя сказать!
И неважно, чья реплика первая, чья в ответ. Оба хорошенько знали, кто и что скажет, знали, о чем постоянно думает и одна и другой. Но не держались кучи ни мысли, ни речи.
Минуло полгода, родители смирились. Отец охотно болтал с дочерью по телефону, ни о чем, не прислушиваясь к тону и вздохам; мать на расспросы соседей бойко объясняла, разумеется, по материалам телевидения, как здорово живут трудящиеся за кордоном.
И вот Флора приехала. С полными баулами, с пухлым кошельком.
- А я к вам навсегда! – И улыбалась сквозь чересчур расписанный рот, и вертелась молодо и тяжело. И вся – скорбящая радости.
- Уволили? – Это мать: - Высосали и выплюнули!
- Везде хорошо, а дома лучше? - как-то вызывающе бросил отец.
И получилось, что ей не рады, что лучше бы она оставалась подальше…
Дочь села на баул, мать на подвернувшийся стул, склонились друг к другу, прощено всплакнули. Отец дважды ходил за водой.
Отоспавшись и собрав силы, пожалуй, воспрянув, - душа потребовала привычного общения,- Флора пошла искать Ника.
- Как ты на данном этапе?
- С повышением. Старший охранник. Только покупатель стал веселее воровать. Вычитывают из зарплаты до двадцати процентов, получается одно к одному.
- А на личном фронт?
- Женился. Жду наследника…
Минул еще год. Флора снимает однокомнатную квартирку в уютном переулке. Ее портреты «ню» в Интернете, пожалуй, самые привлекательные. Живет в достатке. Убеждена, что всякая профессия достойна и что самой ее хватит до сорока… с хвостиком лет. А там все в руце Божией.
* * *

Многожёнец
Инспектор рассматривал анкету и шевелил бровями, надувал губы, сопел. Остановился на графе семейное положение, и продвинуться дальше не мог – глаукома застлала взор: четыре жены за четыре года, и все через Загс!
- Не подходите, - сказал бездыханно.
- По возрасту? – безучастно спросил претендент на должность.
- Многоженец.
- Так не в одночасье же.
- Тем не менее. Четыре узаконенных брака!
- Что было, то было.
- На кой же черт писать в анкете?
- Иную анкету прочтешь: родился, крестился, прививал оспу, хворал, женился. Так никакого представления о человеке! А тут – как на духу…
- Не дух, а душок. Это же вы стольких женщин оставили, да, поди, каждую с малышом!
- Я ни одной не оставлял . Меня вытуривали.
- Это же вы столько скандалов учиняли, чтобы!..
- Ни одного.
- Пили?
- В рот никогда не брал.
- Налево ходили?
- С моими религиозными убеждениями ни налево, ни направо не пойдешь.
- Но четверых же завлекли?
- Эрудиция. Исключительно эрудиция и логорея.
-- На одну женщину вашего красноречия оказалось не достаточно?
- Много…
- Так вы разделили его на четыре!
- Не делил. Каждой отдавал все. Как и внимание и обхождение… - Физиономия претендента кривилась, глаза покрывала поволока.
- Так отчего же вы расставались? – уже сочувственно сердился инспектор.
- Меня память подводила.
- Забывали свои обещания?
- Отнюдь. Слишком много помнил.
- Мне бы проститься с вами сразу… а теперь заинтригован.
- Мне не чего вам рассказать. Я был внимателен, обходителен, старался развлечь, отвлечь..
- От чего отвлечь?
- От телевизора, радио, от слухов. Я был интересней…
- И тем не менее…
- …выставляли мой рыжий чемоданчик за порог.
- Странно, поначалу развлекали и увлекали, а со временем отвлекали и – вас изгоняли?
- Правда, как Бог свят.
- Однако мы напрасно тратим время.
- Не принимаете?
- Вы опасный человек…
Клиент мило поклонился и вышел. Инспектор до конца службы не мог сосредоточиться. Возьмется ли за новую анкету, впустит ли очередного посетителя, глаза своевольно смотрят в дверь, вослед ушедшему многоженцу. И мысли все арифметические: дважды два – четыре, четырежды один - четыре, три плюс один да и два плюс два – четыре. Четыре жены в четыре года – позавидуешь! А у него, инспектора, одна и та беспривязная.
Вечером машинально выпил лишнюю чашку чая, осерчал на себя: инурез лишний раз поднимет со сна. В спальню к супруге не напрашивался, уловил себя на мысли: не интересно. Нет коллизии давешнего посетителя с четырьмя… Если четыре разделить на два, будет два, а если четыре на четыре – вообще один. Или одна, единственная, как у него, инспектора, за тонкой стенкой спальни. И долго не спал. Добро бы вожделения или зависть к чужому успеху, так нет, только неспособность объяснить себе: как это дамы заходили столь далеко, до Загса, а может, и до церковного двора, а потом сами же прерывали брак. Наваждение!
Сонный, мятый, без завтрака пошел целомудренный старик на службу. В кабинете тоже все расклеивалось. Даже шеф, походя, лягнул:
- Снова накануне перебрали, сэр?
И вдруг светлая мысль! Чтобы избавиться от кошмара, дока-статистик и кадровик нашел имя и адрес первой супруги многоженца и потратился на столик в ресторанчике «Тихая пристань».
- У меня необычный вопрос… простите… быка за рога… Такой-то и такой-то был вашим первым мужем?
- Это было еще в раннем палеолите.
- Хорошо сказано. – Это заискивание: – Пещера, шкура снежного барса, бита… Как он к вам подкатил?
- На званом вечере увел в дальний уголок и… «Ты слушать исповедь мою сюда пришел? Благодарю»… Дальше по Лермонтову. Да так изящно и трогательно. Напросился на вторую встречу. В парке, сколько ходили, столько же и…. «Пробираясь до калитки полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки»… Дальше по Роберту Бёрнсу. И так в третий и дальнейшие вечера, пока, под ропот высокой поэзии не подвел к Загсу.
- Ну, и что же плохого дальше?
- А то, что за вечерним чаем: «Без вас хочу сказать вам много, при вас я слушать вас хочу»… В постели: «По вечерам над ресторанами». И так час и два. Я засыпала не солоно хлебавши. А днем он корчил из себя поэта серебряного века: «Это было у моря, где лазурная пена, где встречается редко городской экипаж»… Подзавивал кудри, носил манишку и стерильные манжеты, пригублял дорогое вино. И все за мой счет, а он – палец о палец… Теперь скажите, долго могла продолжаться такая пытка?
Свидание с первой супругой многоженца ничего не прояснило. Дура, не доросла до высокой поэзии. И загадка продолжала донимать инспектора. Ринулся искать вторую супругу счастливчика. Нашел. В меру упитанная и деловая, говорит содержательно:
- Стою в налоговой. Очередь – дракон: три головы и хвост на улицу. А у меня хитросплетения с отчетами. Уложения меняются, а я плутовала по прежним.. Ожидаются неприятности. Что делать, как поступить? И тут повернулся впереди стоящий, среднестатистический мужичок, вроде бы тоже умеренный бизнесмен. Оказалось, ничего подобного: случайно передавал в окошко бумаги соседа. Но он вперился в меня своим чистым и настороженным взглядом и говорит:
- Если не знаешь, как поступить, поступай по закону.
Затасканный, давно известный мне постулат, я сама могла повторить его кому угодно. Но поди ж ты! в волнении не приходил в голову. А этот – глас свыше. Я разом погасла и вспыхнула. По его физиономии видела: человек ловит кайф и приправляет словом:
- Что, была мошна да вся изошла? Или деньга пришла да по рукам пошла?
Надо было посмеяться, чтобы сохранить лицо. Смеялись вместе. После удачной очереди, обедали в «Харчевне пескаря».
Он вытряхивал сентенции и пословицы из рукава. Я была в ударе – угощала, а он принимал щедроты и каждый раз к месту окантовывал блюда словом. К первой рюмке:
- Станут подносить - умей речь заносить.
На закуску отозвался старинной шуткой:
- Хлеб-соль и во сне хороши.
На сладкое, помню его намек:
- Пирог ешь да хозяйку тешь!
Исподволь, теми же пословицами мужик набился в гости:
- И Бог велит с приятным знаться… - И совсем под хмелем: - Дома не лежу, в гостях не стою…
Слушая, инспектор улавливал что-то такое в натуре своего многоженца… такое, что назвать словом не мог, но оно нравилось. Вот нравится, и все тут.
- Понятно начало, - сказал поспешно. – А конец. Меня интересует конец.
Женщина вздохнула:
- Слава Богу, конец пришел скорый.
- И? и?.. отчего же?
- Вы долго можете смотреть в одну и ту же точку? Даже если это яркая точка? Впрочем, тем более, если яркая. А тут ни одного своего слова, только пословицы, поговорки, сентенции. Да все к месту, да глубоко, да выговор из классиков, из давнего времени. В городском театре выпросил какую-то ветошь: поддевку, шаровары, повязал цветной платок на шею – ну, тебе приказчик с охотного ряда времен Боборыкина и Гиляровского. Я стала пугаться своего недолгого благоверного. Идем по улице - два молодца затевают драку. Я женщина - и то вступилась бы. А мой спутник отмахнулся:
- Наши дураки не смотрят на кулаки.
Что тут возразишь: драчуны дураки, он умный – прошел мимо. Как-то пожаловалась ему:
- Промахнулась я с заготовкой семян. Не свезешь ли на элеватор.
Последнюю фразу он уже не слушал, а на первую возразил:
- Что Бог дает – либо выручает, либо поучает.
И уж совсем отдалился от меня мудростью предков:
- Лучше умереть в поле, чем в бабьем подоле.
…Еще одна бывшая партнерша моего многоженца жаловалась на полное отсутствие серьезности в его характере. На любое дельный проект отвечает:
- Это уже было. – И выдает анекдот, высмеивающий ее затею. Да так искусно, в такой словесной форме, что не возразишь. Дурочкой себя чувствуешь рядом с ним. А ведь не его умом кормилась семья, а моей глупостью. Вот наглядность. Идет зима, тонкие стены не греют. Говорю: давай утеплим квартиру. Он хохочет заранее:
- Четырехлетний малыш вчера приходит из садика. Мама спрашивает: «В садике топят?» Малыш отвечает: «Нет, только ставят в угол». И заливается смехом и уходит от темы. А то про евреев, которых уже и в городе нет. «Абрам, ты с ума сошел: вчера в полночь гляжу на твои окна: свет горит, ты голый, Сура твоя голая, бегаете, обнимаетесь!». «Ой, Хаим, ты меня расхохотал: меня вчера и дома не было». Думалось, пристроить его к какому-то делу, избавиться от веселья хоть на световой день. И слушать не хотел. Еле-еле вытурила…
… Инспектор не умел разделить добро и зло в характере многоженца. Трижды собирался плюнуть на свои исследования, но невольно возвращался к загадке: человек вызывает скорый интерес к себе и… тут же – полное отвержение. С ума сойти! Этакий путь к коллекционированию женщин, никакой Фаулз не придумает.
Нашел четвертую жену многоженца; та со многими вздохами поведала, что мужичок увлек ее, а потом довел до перманентных истерик историями из своей сельской жизни и типами крестьян из самой глубинки. Поначалу все анекдотические были. То пьяный старик на кладбище прощается с прахом сверстника: «Спи спокойно, дорогой товарищ, мы тебя не подведем». И снимает правую руку с груди покойника, горячо пожимает и кладет на место. То церковный староста на проводки собрал три сотни яиц и, опять же по хмельному делу, понес не в церковь, а на рынок и торговал, за что и был изгнан приходом. Забавных историй хватило до дня, когда пара сошлась. Потом пошли печальные, нестерпимые истории. Скажем, в недород в степи осталась одинокая копна. Глупая осень, слякоть. Мужик подходит, чтобы клюкой надергать соломки в сарай. Из копны во все стороны выпадают мыши и… выползает человек в тряпье. Бесприютный, сельский дурачок, до которого ни в сельсовете ни в церкви дела нет… Самое противное, что супруг Этой четвертой до того вернулся в образ своей колхозной юности, что запустил космы, отрастил ногти, не мылся, вонял, матерился… И вывести его из образа никакими усилиями не удавалось. А уж трудиться не принудишь ни дома ни вне дома…
Тип новейшего, причем нашего по крови альфонса, - вывел инспектор.
И три-четыре дня не думал о нем. И вдруг встретил многоженца над лиманом. Одинокий и унылый, весь изношенный, тряпьем и ликом, стоял мужик с пустыми глазами, явно не зная куда идти. Любопытство одолело инспектора. Предложил бедняге рюмку и закуску. Тот не отнекивался, с давно нажитой сноровкой ухватился за приглашение. В подвальчике ударились в философию.
- Я познакомился со всеми четырьмя вашими женами…
- Замечу, все мои женщины стояли на слабом фундаменте.
- Зачем же вы, вместо крепить этот фундамент, ёрничали с ними?
- То беда моя, не вина.
- Я знавал одного хлюста из окраины. Старый холостяк с целым гектаром огорода, садиком, двором, полным живности. Он выбирал в Интернете претендентку на руку его, женщину покрепче и похозяйственней, устанавливал испытательный срок. Она пахала во дворе и в саду…
- …А когда весенний или осенний сезон кончался, он заявлял: вы мне не подходите. Да? Эта быль не про меня.
- Отчего же? Очень похоже.
- О нет.. Я не виноват, что с первого взгляда, с первых звуков человека прознаю его биографию. А биография у каждого в моем поколении , ой, как печальна… Разумеется, кроме художников. Эти таланты, даже на сухаре и воде, умеют быть счастливыми. Их фантазии, их постоянное познание и отображение себе подобных – вот источник душевного равновесия…
- Вы клеились к художницам?
- Ой, не спрашивайте! Я хотел счастья в этой жизни – я хотел стать художником. В театральный вуз не взяли – ни голоса, ни слуха. В литературный – стиль мой похож на четыре чужих разом взятых, эклектика! Забраковали. Про живопись, музыку, балет я и не заикался. И вот я нашел свой вид искусства – театр одного актера для одного зрителя. Точнее, театр одного зрителя. Сам собирал фольклор, сам ставил и играл. И так входил в роль, что нравился себе… и не только себе… Понимал, что мое искусство, как и всякий спектакль, песня, книга – не навсегда. Кроме классики. Сознавал, я не классик, я - графоман. Но остановиться уже не мог.
- Вы же обманывали и, в некотором роде, разоряли каждую единственную свою зрительницу.
- А какое искусство не обманывает и не разоряет?
Звучали еще какие-то слова, инспектор их не слышал. Думал: сумасшедший.
А я, автор этой зарисовки, думаю: он не более сумасшедший, чем узурпатор, воротила, коллекционер, болельщик, художник, гурман, сластолюбец… -каждый двуногий, кого можно определить одним словом.
* * *

Цена пианино
Галина, миниатюрная, чопорная женщина, с цепким, как липучка взглядом, получила комнату. После семи лет скитаний по общежитиям и хозяйкам, после скандалов и, как следствие, развода с мужем, после увиливания с переменным успехом от сексуальных посягательств прораба, теперь можно начинать новую жизнь, чувствовать себя, дамой вполне урбанизированной.
С парящей душой прошлась по первому этажу барака, слепленного еще пленными немцами из глины и дранок, уступила дорогу растрепанной Насте и бегущему за нею с топором Ваське, сосчитала конфорки в кухоньке на четверых, порадовалась, что в другом конце коридора есть еще одна кухонька, и рецидивист Валёк подогревает травку там.
Потом посетила магазинчик в полуподвале через дорогу и капитальный, куда опрятней барака, туалет на холме – то и другое близко и удобно… После обеда принялась выгребать из подполья остатки запасов угля и дров; торбами выносила поллитровки и консервные банки, давно опорожненные и забытые умершим на святцах и освободившим жилплощадь холостяком-инженером.
К началу учебного года можно забрать с деревни дочку и приступить к воспитанию. Чтобы разом отсечь босоногое деревенское детство Маринки и ввести живописную, как Мальвина, девчурку в новое городское окружение, среди ночи, в счастливом полусне, надумала Галина купить пианино и нанять учительницу музыки.
Теперь инструмент дают в рассрочку, любящая бабушка из своих заработков на колхозной свиноферме выплатит кредит, а на учителя Галина стянется сама. Завтра же наймется мыть подъезды в доме через дорогу. Туда можно входить к ночи, сотрудники не увидят и не осудят чистюлю-бухгалтершу, докатившуюся до швабры и квача, а копейка прибавится.
Так в дряхлом, осыпавшемся бараке появился инструмент, вызывающий уважение уже своим непомерным весом и дубовым окрасом. Зазвучали гаммы и аккорды...
Звучали не долго. Третьеклассница Маринка потянулась за подружками в Дом культуры – танцевать, и увиливала от музыкальных уроков. Огорошенная мать долго усаживала дочку насильно. Но даже ее ангельской настойчивости не хватило. Упорней оказалось дитя, которое танцевало на детской сцене всегда в первом ряду, даже не раз солировало.
Значит, ею избран иной путь к городской культуре. Крышку пианино захлопнули: подождем, подрастет глупышка, одумается, сама сядет за клавиши. Не пропадать же почти тысяче бабушкиных мозолистых рублей.
Увы! Ни походы к преподавательнице музыки, ни попытки Галины самой
освоить два-три этюда как пример для дочери – не помогли. Инструмент служил подставкой для цветов и аргументом для редкого гостя, мол, мы не лыком шиты и просим к себе соответственного отношения…
Повезло молодой маме: встретился разводной мужик с квартирой и с большой тоской по увезенным в столицу его собственным детям. А еще вдруг - неисповедимыми путями - с отеческой привязанностью к уже пятикласснице Маринке. С вящим терпением и упованием на будущую любовь к этому припухшему и неаппетитному партнеру, женщина потрудилась и на людях и в постели – укачала подстарка, поженились.
Хорошо заплатили и перевезли пианино на третий этаж его «хрущовки».
В пятиэтажке и без того доставало и музыки и вокала. Этажом ниже жил рыбак, естественно, выпивоха и компанейский парень, к нему сходились коллеги, пили и пели.
Над головой постоянно гремел магнитофон, там все ожидал конца безработицы огромный оболтус и, пока на него спроса не было, круглосуточно спал под африканские там-тамы.
Вялый супруг под редкое настроение поднимал крышку инструмента, двумя пальцами «набирал» старинный вальс или казацкий марш. Потом и ему надоело. Маринка же быстро росла и без музыки. Танцы, танцы, а в старшем классе - танцы и мальчики – уж очень удалась невеста и лицом и статью.
На пианино надежно поселились салфетки и вазоны.
Жилось нелегко: отец семейства зарабатывал мало, обаянием не дышал, скорее, сопел и брюзжал. Любви у Галины так и не вызвал, душевной радости не жди. Однако уже потрачены ее большие надежды, силы и средства, надо держаться за этот присохший гуж.
Подворачивался покупатель на пианино. Подумала, вернее, почувствовала женщина: чем больше сил и трат у нее забирают, тем дороже становятся, будь то супруг, будь то музыкальный ящик. Галина украдкой обнажала клавиши, тыкала пальцами по белым и черным. Однако не находила созвучия между тем, что слышало ее внутреннее ухо и тем, что подавали струны из чрева инструмента. Закружилась по дому, на время умерила творческий пыл.
Дочь росла красавицей, рано вышла замуж и сразу ждала ребенка, лекаря просветили ее аккуратный животик – будет девочка. Галина воспылала новой надеждой: уж из внучки она неизбывно сделает пианистку.
Жизнь не болезнь – проходит быстро.
К шестилетней внучке бабушка Галина наняла педагога – траты. Возила юркую Эллочку к себе три раза в неделю – еще копейка, теперь на маршрутки. Потом решилась: уплатила дорого – отвезли инструмент в квартиру зятя, там чуть-чуть свободней.
Увы, с третьего класса и внучка пошла в танцевальную студию. И как ни билась бабушка, несмотря на чуткий слух и чувство ритма, Эллочка не питала страсти к инструменту. К тому же была упряма – на пианино устанавливала и укладывала своих младенческих мишек, котят и клоунов, чтобы не повадно было поднимать ляду.
Внучка росла, обзаводилась подружками, даже мальчиками, потребовалось больше свободного места в ее комнате. Попросили бабушку забрать пианино. Оскорбилась Галина, но перевезла к себе в «хрущовку» - еще траты.
Мудрая женщина, она пыталась успокоить себя философией: не по Сеньке шапка. То есть, не совпадают ее высокие замыслы с деревенской натурой семьи. И все же надеялась…
И куда уходит время? Как-то сразу состарился, высох и умер супруг. Выросли не только дети, но и внуки, а с ними росли их интересы, пошире и подороже бабушкиных. Скрытно стареющую Галину любили и уважали, но заходили все реже – своих забот и развлечений достаточно. Женщина и за собой замечала охлаждение к пианино. Зять привез и установил в ее светелке большущий телевизор с полусотней программ, в переулке открылся рыночек с большим выбором товаров и с еще большими ценами – было при чем кружиться и вечером и днем.
Стояло пианино, новенькое с виду, настроенное ли, нет ли, кто скажет, и спроса не него не было. Только душу томило и в совесть зазрило.
Как-то подсела старенькая к нему, обнажила белые и черные его зубы, но коснуться пальцем побоялась. Грудь теснило, возникала обида на музыкальный инструмент, как на живое существо, на виновника ее утрат. Смолоду конвоировала женщину ложная мечта, - не я, так дети мои выйдут в люди,- и связанные с этой дерзкой грезой расходы души и тела. Теперь стоит коричневый ящик свидетелем заблуждений всей ее жизни…
Машинально Галина ткнула одним пальцем в клавишу, потом другим. Само собой вспомнилось, куда нажимал покойный супруг, исполняя свой единственный вальс.
Смешно, не от слуха, а от очередности движения пальцами родилась квелая, поначалу чужая, потом приближающаяся и совсем близкая мелодия, кажется, «Амурские волны»…
И завтра и послезавтра одинокую женщину тянуло к инструменту и требовало бить по клавишам все крепче и уверенней. Душа оживала…
Неделя прошла, пожалуй, больше - позвонил в дверь сосед-рыбак.
- Вы что? У меня внук родился, а вы черт-те что! Да хотя бы попса, а то тямкаете, эту самую - какофлн… хрен знает что!!
Ослабевшая и уступчивая бабушка выслушала соседа и извинилась.
…Теперь она с утра ходит по рынкам, виновато торгуется, в полдень готовит обеды-ужины на себя одну, по субботам навещает внучку. Вечерами рассеяно глядит в ящик телевизора, не вникая в абракадабру политиков и фальшивые страсти сериалов, ночью засыпает только с сонованом и трудно…
Пианино стоит под стенкой, рукой подать, протертое, покрытое салфетками. На верхней крышке - короб с пигулками, микстурами, чашкой с водой. Удобно - здоровье под рукой… 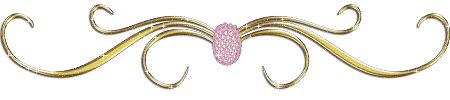
Встреча Анатолия Малярова с читателями николаевской библиотеки им. М. Кропивницкого накануне своего 80-летия. Николаев 2013 г.